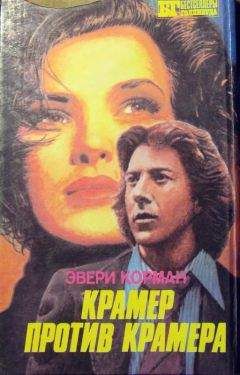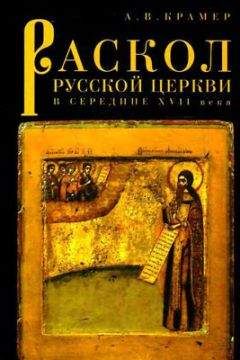Печь возле люблина
Дымил крематорий печною трубой
над Люблином, в польской земле.
В товарных вагонах людей на убой
свозили в огромном числе:
чудовищный дым застилал окоем —
их газом травили, сжигали живьем
у Люблина, в польской земле.
Три года крюкастый штандарт проторчал
над Люблином, в польской земле.
Хозяин процент со всего получал —
без пользы пропасть ли золе?
В мешок да под пломбу — и снова в вагон:
подкормкою пепел служить обречен
великой немецкой земле.
Сияет на знамени красном звезда
над Люблином, в польской земле.
Но мало того, что теперь навсегда
погашено пламя в жерле;
позорного чада над миром — с лихвой,
так пусть же заплатит палач головой
за бойню в польской земле!
22.8.1944
Ты сегодня дашь нам, господарь, ночлег,
завывает ветер, сыплет крупный снег;
мы оставим ружья, двери — на крючок,
ну, а ты согреешь, братик-сливнячок.
Мы врагов осилим эдак через год.
Господарь, приветствуй будущих господ:
не пойду батрачить, я не дурачок,
ну-ка, подтверди-ка, братик-сливнячок.
Пролито немало крови на веку:
выйти в господари должно гайдуку,
завести овечек, садик, парничок,
кукурузку, дыньку — ну, и сливнячок.
Из страны прогоним бешеных свиней,
доживем, понятно, и до вешних дней,
и такой отколем майский гопачок —
ух, как будет славно, братик-сливнячок!
7.2.1945
Мое почтенье, барин-господин!
Ты слышишь стук окованных дубин?
Ты очень зря запрятал в погреба
стервятника с фашистского герба.
Хозяин, ведь у нас с тобой родство!
Мой дед повесил деда твоего.
В мое лицо вглядись еще слегка:
ты, барин, узнаешь ли батрака?
Ну, разжирел ты, барин, чистый хряк!
Ты мордовал меня и так, и сяк,
я тюрю ел, ты смаковал пилав, —
но времечко бежит, летит стремглав!
Таши-ка сливнячок из кладовой!
Стаканчик — мне, а весь осадок — твой.
Тебе вниманье, барин, уделю:
давай-ка шею, полезай в петлю.
22.6.1945
Черна зола пожарищ и сыра,
однако строить новый дом пора;
как ни изрыли землю кабаны —
под осень тут созреют кочаны.
Гляди-ка, уцелел хозяйский дом!
Он строен, чай, не нашим ли трудом
там, на юру, над степью, — посему,
пожалуй, будет школа в том дому.
Пора заняться саженцами слив.
Да будет мир неслыханно счастлив,
таков, каким вовек не видан встарь:
никто не раб, и каждый господарь.
12.5.1945
В бескормицу, в самое злое бесхлебье,
не вовремя гибнуть надумал, отец.
Разграбило ферму чужое отребье,
зарезали немцы последних овец.
Плотину взорвали они торопливо,
когда отступали. И невдалеке,
где польдер открылся на время отлива,
твой труп отыскался в соленом песке.
Отец, мы тебя между илистых склонов
тихонько зарыли в предутренний час,
но стопка твоих продуктовых талонов
в наследство еще оставалась у нас:
и чашечку риса, и сыр, и горбушку
делили мы поровну, на три куска, —
мы на ночь стелили тебе раскладушку,
мы дверь запирали на оба замка.
Отец, под кустом бузины у плотины
ты горькую трапезу благослови:
ты жизнь даровал нам в былые годины
и, мертвый, даруешь нам крохи любви.
Три вечных свечи мы поставим в соборе,
чтоб люди забыть никогда не могли
о том, как враждебное хлынуло море
в родные пределы зеландской земли.
2.6.1945
Старая пара в венском лесу
С тех пор, как бомбы градом с неба валят,
мы приучились вверх смотреть, — и вот
мы вдруг поймем, что синевою залит
безоблачный осенний небосвод.
Мы рухлядь «зимней помощи» наденем —
подачки с оккупантского плеча —
и побродить часок в лесу осеннем
пойдем тихонько, ноги волоча.
Нам сыновья, что под Москвою пали,
писали, что костерик до поры
им разрешалось ночью, на привале,
поддерживать кусочками коры;
но вздумалось начальственным придирам,
что для солдат уместней темнота, —
лишь тонкий ломтик хлеба с комбижиром
да чай из земляничного листа.
А двое стариков в далекой Вене
ничком ложатся в палую листву,
когда над ними пробегают тени
машин, перечеркнувших синеву;
и, встать не смея с прелого покрова,
мы ждем, когда же кончится налет,
как все, над кем трава взойти готова,
о ком никто не вспомнит через год.
14.10.1943
Реквием по одному фашисту[3]
Ты был из лучших, знаю, в этом сброде,
и смерть твоя вдвойне печальна мне;
ты радовался солнцу и свободе,
как я, любил шататься по стране.
Мне говорили, ты гнушался лязгом
той зауми, что вызвала войну, —
наперекор велеречивым дрязгам
ты верил только в жизнь, в нее одну.
Зачем ты встал с обманутыми рядом
на безнадежном марше в никуда
и в смерть позорным прошагал парадом?
И вот лежишь, сраженный в день суда.
Убить тебя — едва ли не отрада;
ни у кого из нас терпенья нет
дорогу разъяснять заблудшим стада, —
и я за смерть твою держу ответ.
Пишу, исполнен чувств неизрекомых,
и поминаю нынче ввечеру
тебя медовым запахом черемух
и пением цикады на ветру.
Вовек да не забудется позор твой,
о сгинувший в неправедной борьбе,
ты славе жизни да послужишь мертвый, —
мой бедный брат, я плачу о тебе.
Когда вернусь я в мой зеленый дом
Когда вернусь я в мой зеленый дом,
что ждет меня с терпеньем и стыдом,
я там на стол собрать хочу давно
орехи, хлеб и терпкое вино.
Любимая, на трапезу приди
и ту, другую, тоже приведи,
придите все — всё будет прощено,
пусть нас помирит терпкое вино.
И ты приди, кто в чуждой стороне
так дорог нынче оказался мне, —
придите, мне без вас не суждено
разлить по кружкам терпкое вино.
Цветите же, когда придет весна,
акация, каштан и бузина,
ломитесь ветками ко мне в окно
и осыпайтесь в терпкое вино.
Так соберитесь же в моем дому
все те, кто дорог сердцу моему, —
мы будем петь (о чем — не все ль равно?)
в дому, где ждет нас терпкое вино.
14.4.1944
Из сборника
«ПОГРЕБОК»
(1946)
1. Сын бургенландца
Весь сельдерей повыдерган из грядок,
уложена вся пшенка за варок,
у матери давно везде порядок,
в похлебке тоже третий день жирок.
Туманами подернуты закаты…
Пора уж, батя, и тебе до хаты.
Я жду тебя, — уж я укараулю,
хотя свободной ни минутки нет;
я всю собрал картошку и цибулю,
дрова переколол в поленья дед,
мать на табак не разрешила траты…
Пора уж, батя, и тебе до хаты.
Она козу пасет на дальних кручах,
одна в залог уходит далеко —
там много трав целебных и пахучих;
на кухне выкипает молоко,
и сумерки уж больно длинноваты…
Пора уж, батя, и тебе до хаты.
На помидоры — урожай особый,
и шильхер тоже очень удался,
но сливовицу нашу ты не пробуй,
пусть даже мать пожарит к ней гуся:
в ней порошок, — но мы не виноваты…
Ты, батя, приходи скорей до хаты!
2. Отец бургенландца
Померзла помидорная рассада,
по грядкам видно: на носу зима.
Осенний шильхер выспел то, что надо,
и пшенкою забиты закрома.
Поленницы пусть шатки, да не валки,
на юг убраться птицам невтерпеж…
Когда ж услышу стук дорожной палки,
когда ж, сынок, из города придешь?
Никто меня не кормит до отвала,
и я желудком очень нездоров;
твоя жена мне денег не давала,
наколотых ей вечно мало дров, —
чтоб всё понять, не нужно и смекалки;
а стук часов ночами так похож
на долгожданный стук дорожной палки, —
когда ж, сынок, из города придешь?
Она сама гоняет коз к разлогу
и сына к плавням шлет за тростником,
корсет натянет, выйдет на дорогу
и долго вдаль глядит, как под хмельком;
но сливовицу ты из рук нахалки
не пей, не то подохнешь ни за грош…
Когда ж услышу стук дорожной палки,
когда ж, сынок, из города придешь?
3. Жена бургенландца
Посохли флоксы, выспел шильхер славно,
вся кукуруза сложена в сарай,
на грядках нет работы и подавно,
а гуси улетают в южный край;
я сею мак, мне временами худо,
тогда иду под вечер за порог…
Когда ж моя окончится причуда,
когда же ты вернешься, муженек?
Запасец дров твоим отцом наколот,
он вообще-то целый день в дому,
на хвори жалуется и на голод:
не буду резать курицу, ему
назло, — он всё бурчит, бурчит, зануда,
что про меня, мол, всё ему вдомек…
Когда ж моя окончится причуда,
когда же ты вернешься, муженек?
Коль ты прибавишь малость к тем деньжонкам,
что я с продажи сливок берегу,
то сможем мы разжиться поросенком, —
я мак давно готовлю к пирогу;
а так — узнать кому да и откуда:
не здешний он, тот возчик-паренек…
Когда ж моя окончится причуда,
когда же ты вернешься, муженек?
4. Бургенландец идет домой
На палке трясется котомка,
дойти б уж домой поскорей.
На лужицах льдистая кромка,
повыдерган весь сельдерей.
И, радуясь каждой примете,
шагаю, маленько спеша:
зарежу козу на подклети,
у плавней возьму камыша.
Папаше несу, старикану,
табак и еще ветчину,
сынишке игрушку достану,
уважу, понятно, жену.
Забудем о прожитом лете,
ужо натомилась душа!
Зарежем козу на подклети,
у плавней возьмем камыша.
Готова ли каша из пшенки?
Довольно ли в печке огня?
Семь месяцев в дальней сторонке
мгновеньем прошли для меня.
Никто ни за что не в ответе,
да можно ли жить, не греша —
не резать козу на подклети,
у плавней не брать камыша?