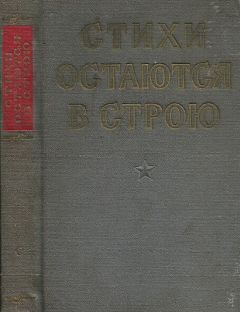Варвара Наумова
Еще со взгорья, как штыки нацелясь,
Торчат сухие мертвые стволы
И, словно зло оскаленная челюсть,
На мшистом склоне надолбы белы;
Еще землянок черные берлоги,
Сухим быльем с краев занесены,
Зияют в чаще по краям дороги, —
Но этот лес — живой музей войны.
Уж на дрова разобраны завалы,
Природа нам союзницей была:
Она дождями гарь боев смывала,
На пепелище зелень привела.
И хутора спускаются в долину,
С угрюмым одиночеством простясь,
И жизнь полей становится единой,
И неразрывной будет эта связь.
Еще для слуха кажутся чужими
Названья сел, и путь меж ними
нов, —
Но родины единственное имя
Встает как день над волнами холмов.
И люди здесь спешат трудом и словом
Запечатлеть во всем ее черты,
Уже навек сроднившись с краем новым
В сознании спокойной правоты.
«Оленьих копыт полукружья…»
Оленьих копыт полукружья
По отмели цепью идут,
Блестят комариные лужи,
И лемминги в травах снуют.
На север, на запад, к востоку
И к югу, чиста ото льда,
По мелким и узким протокам
Блестит паутиной вода.
Беседую с хмурым радистом,
Играю с домашним зверьем,
Негреющим солнечным диском
Наш остров весь день озарен.
Работаем днем, а досуга
Вечернего час подойдет —
На выбор готовы к услугам
Ружье, патефон, перемет.
Но где на досуге ни буду,
Уйти от нее не могу:
Упорно видна отовсюду
Гора, что на том берегу.
И нет ничего, что могло бы
Так в памяти лечь глубоко,
Как эта спокойная злоба
Сквозь мох проступивших клыков,
И контур, чернеющий тонко
Над ними в просторе пустом, —
Последняя пристань де Лонга
Помечена черным крестом.
Неплохо гангрена и голод
Атаку умели вести
В безлесных, заснеженных долах,
Где дьявольский ветер свистит.
Черней не бывало печали,
И мысли о ней леденят,—
О, если б вы нас повстречали!
Вы к нам бы зашли, лейтенант,
По радио миру поведать
Про дрейф и услышать Москву,
И знать, что недавние беды —
Лишь тягостный сон наяву.
* * *
Ручные кричат лебедята,
И темным сияет лицом
Якут из Большого Тумата,
Сидящий за чайным столом.
Когда же на позднем закате
Из дальней протоки придет
С разведки вернувшийся катер
За мною — для новых работ, —
Прощаясь, запомню я дали,
Бревенчатый облик жилья
И мертвую гору, что звали
Вокруг — Кюэгель-Хая,
Что хмурится, ввысь упирая,
Над дикою скудостью мест,
На прошлом полярного края
Навеки поставленный крест.
Сосна да пихта.
Лес да лес,
да на опушке горсть домишек,
а поезд в гору
лез да лез,
разгромыхав лесные тиши.
А поезд мерно —
лязг да лязг —
все лез, да лез, да резал кручи,
с тишайшим лесом поделясь
железной песней —
самой лучшей.
Сосна да пихта.
Шесть утра.
В красноармейском эшелоне
еще горнист не шел играть —
будить бойцов и эти лона.
Был эшелон как эшелон:
сем сотен красной молодежи,
которой солнце бить челом
неслось небесным бездорожьем;
которой
след горячих дней
был по ноге,
костюм — по росту
и так же шел, суровый, к ней,
как горным высям чистый воздух;
которой
путь сиял таков,
что мерять пафос брали версты…
Был эшелон семьсот штыков:
семьсот штыков —
одно упорство.
Сосна да пихта.
Сонь да тишь,
да в этой тиши горсть домишек,
таких,
что сразу не найти,
таких,
что даже тиши тише.
И вдруг — горнист.
И вдруг — рожок.
И вдруг, — как пламя на пожаре,
басок дневального обжег:
— Вставай,
вставай,
вставай, товарищ!
1. Опять нет писем
Висят кувшины на заборе.
Рябина плещет на ветру,
И ягод огненное море
Ведет веселую игру.
На опустевшие балконы
Ложатся сумерки и тьма,
И ходят мимо почтальоны,
И нет по-прежнему письма.
Как будто ты забыла имя,
И номер дома и число,
Как будто листьями сухими
Дорогу к сердцу занесло…
1939
2. Последний день в ЦПКО
Свежеет ветер, все сильней
Раскосый парус надувая.
И руки тонкие ветвей
Подолгу машут, с ним прощаясь.
Под птиц печальный пересвист
Идем, счастливые, с тобою,
На солнце пожелтевший лист
Летит, мелькая над водою.
Прохладой осени дыша,
В последний раз теплом порадуй!
И в шубах дремлют сторожа,
Склонясь у обнаженных статуй.
1939
(Отрывок)
Сентябрьский ветер стучит в окно,
Прозябшие сосны бросает в дрожь.
Закат над полем погас давно.
И вот наступает седая ночь.
И я надеваю свой желтый плащ,
Центрального боя беру ружье.
Я вышел. Над избами гуси вплавь
Спешат и горнистом трубят в рожок.
Мне хочется выстрелить в них сплеча,
В летящих косым косяком гусей,
Но пульс начинает в висках стучать.
«Не трогай!» — мне слышится из ветвей.
И я понимаю, что им далеко,
Гостям перелетным, лететь, лететь.
Ты, осень, нарушила их покой,
Отняла болота, отбила степь,
Предвестница холода и дождя,
Мороза — по лужам стеклянный скрип.
Тебя узнаю я, как новый день,
Как уток на юг отлетающих крик…
Вечер сутолоки на исходе,
Тишина, теплынь и легкий дождь.
Майской ночью по такой погоде
Молодо по улице идешь.
Тусклы Исаакия колонны,
Парапета призрачен гранит.
За Невой,
как поезд отдаленный,
Дождь над парком Ленина шумит.
Вот грохочет ливень, нарастая,
Возле, рядом, падает стеной,
Я иду, и струи, расступаясь,
Как друзья, торопятся за мной.
Хорошо!
Ужель мне с гаком тридцать?
Честный паспорт, ты, пожалуй, врешь!
Продолжай звенеть и серебриться,
Ленинградский полуночный дождь!
«Осеннее пальто и теплая рубаха…»
Осеннее пальто и теплая рубаха
Не согревают утром в сентябре;
На сопках снег лежит как сахар,
И снег на улице и на дворе.
Днем, перед солнцем расступясь немного,
Заголубела облаков гряда;
Грязным-грязна вихлястая дорога,
И на базарной площади вода.
Звенят капели, хлопотливо птаха
Клюет овес, разбрасывая грязь.
На сопках снег блестит как сахар,
На сопках снег лежит не шевелясь.
И я хотел пуститься в рассужденья,
Что, мол, и ты, боец, наперекор
Беспомощной сумятице осенней,
Сияй, как снег дальневосточных гор.
Но, зная, что звучит все это слишком
громко,
Что людям надоела трескотня,
Я вскинул на плечо походную котомку,
И рифмы отскочили от меня.
Она стояла в стороне от дома,
Она была в пруду отражена,
Была покрыта аржаной соломой
И садом и плетнем защищена.
Зимою в ней всегда пищали мыши
И грызли корм, а в мартовскую стыдь
Отец раскроет половину крыши, —
Корову надо чем-нибудь кормить!
И рига — наподобие скелета;
Меж ребер-слег носился ветра вой.
Мы перед нею посредине лета
Сушили сено — пахло муравой.
И с радости отец напьется водки
И приготовит новые цепы,
А у ворот, как мужики на сходке,
Толпилися широкие снопы…
Но теплою осеннею порою
Под мелкий дождик и отец и мать
Ее покроют шалью золотою —
И нашу ригу снова не узнать.