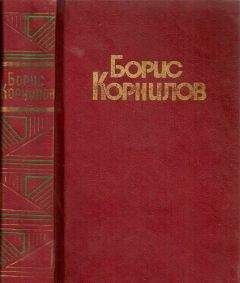<1932>
«Тосковать о прожитом излишне…»
Тосковать о прожитом излишне,
но печально вспоминаю сад, —
там теперь, наверное, на вишне
небольшие ягоды висят.
Медленно жирея и сгорая,
рыхлые качаются плоды,
молодые,
полные до края
сладковатой и сырой воды.
Их во мере надобности снимут
на варенье и на пастилу.
Дальше — больше,
как диктует климат,
осень пронесется по селу.
Мертвенна,
Облезла
и тягуча —
что такое осень для меня?
Это преимущественно — туча
без любви,
без грома,
без огня.
Вот она, —
подвешена на звездах,
гнет необходимое свое,
и набитый изморозью воздух
отравляет наше бытие.
Жители!
Спасайте ваши души,
заползайте в комнатный уют, —
скоро монотонно прямо в уши
голубые стекла запоют.
Но, кичась непревзойденной силой,
я шагаю в тягостную тьму
попрощаться с яблоней, как с милой
молодому сердцу моему.
Встану рядом,
от тебя ошую,
ты, пустыми сучьями стуча,
чувствуя печаль мою большую,
моего касаешься плеча.
Дождевых очищенных миндалин
падает несметное число…
Я пока еще сентиментален,
оптимистам липовым назло.
<1932>
Три желтых, потертых собачьих клыка
ощерены дорого-мило —
три сына росли под крылом кулака,
два умных, а третий — Гаврила.
Его отмечает звезда Козерог.
Его появленьем на свете
всему населенью преподан урок,
что есть неразумные дети.
Зачем не погиб он, зачем не зачах
сей выродок в мыслящем мире
и вырос — мясистая сажень в плечах,
а лоб — миллиметра четыре.
Поганка на столь безответной земле,
грехи человека умножа,
растет он и пухнет — любимец в семье,
набитая ливером кожа.
Не резкая молния бьет о скалу,
не зарево знойное пышет —
гуляет Гаврила один по селу,
на улицу за полночь вышед.
Не грозный по тучам катается гром,
хрипя в отдалении слабо, —
Гаврилиной обуви матовый хром
скрипит, как сварливая баба.
Скрипит про Гаврилу, его похвальбу,
что служит Гавриле наградой, —
Гаврила идет.
Завитушка на лбу
Пропитана жирной помадой.
Глядите, какой молодчина, храбрец,
несчастной семьи оборона, —
в кармане его притаился обрез —
в обрезе четыре патрона.
А тучам по небу шататься невмочь,
лежат, как нашлепки навоза…
В такую ненастную, дряблую ночь
умрет председатель колхоза.
И только соседи увидят одно —
со злобы мыча по-коровьи —
разбитое вдребезги пулей окно
и черную ленточку крови.
Тяжелым и скорбным запахнет грехом,
пойдут, как быки, разъяренно,
дойдут… А наутро прискачет верхом,
сопя, человек из района.
Он в долгом пути растеряет слова
и сон. Припадая на гриву,
увидит — Гаврилы лежит голова,
похожа на мятую сливу.
Ободраны щеки, и кровь на висках,
как будто она побывала в тисках,
Глаза помутнели, как рыбьи, грязны,
и тело затронуло тленье…
Что значит, что приговор нашей страны
уже приведен в исполненье.
<1932>
Пушистою пылью набитые бронхи —
она, голубая, струится у пят,
песчинки легли на зубные коронки,
зубами размолотые скрипят.
От этого скрипа подернется челюсть,
в носу защекочет, заноет душа…
И только кровинок мельчайшая челядь
по жилам бежит вперегонки, спеша.
Жарою особенно душит в июне
и пачкает пóтом полотна рубах,
а ежели сплюнешь, то клейкие слюни,
как нитки, подолгу висят на губах.
Завял при дорожной пыли подорожник
коней не погонит ни окрик, ни плеть —
не только груженых, а даже порожних
жара заставляет качаться и преть.
Все думы продуманы, песенка спета,
травы утомителен ласковый ворс.
Дорога от города до сельсовета —
огромная сумма немереных верст.
Всё дальше бредешь сероватой каймою,
стареешь и бредишь уже наяву:
другое бы дело шагать бы зимою,
уйти бы с дороги, войти бы в траву…
И лечь бы,
дышать бы распяленным горлом, —
тяжелое солнце горит вдалеке…
С надежною ленью в молчанье покорном
глядеть на букашек на левой руке.
Плывешь по траве ты и дышишь травою,
вдыхаешь травы благотворнейший яд,
ты смотришь — над потною головою
забавные жаворонки стоят…
Но это — мечта. И по-прежнему тяжко,
и смолы роняет кипящая ель,
как липкая сволочь — на теле рубашка,
и тянет сгоревшую руку портфель.
Коль это поэзия, где же тут проза? —
Тут даже стихи не гремят, а сопят…
Но дальше идет председатель колхоза,
и дымное горе летит из-под пят.
И вот положение верное в корне,
прекрасное, словно огонь в табаке:
идет председатель, мечтая о корме
коней и коров, о колхозном быке.
Он видит быка, золотого Ерему,
короткие, толстые бычьи рога,
он слышит мычанье, подобное грому,
и видимость эта ему дорога.
Красавец, громадина, господи боже,
он куплен недавно — породистый бык,
наверно не знаешь, но, кажется, всё же
он в стаде, по-видимому, приобык.
Закроешь глаза — багровеет метелка
длиной в полсажени тугого хвоста,
а в жены быку предназначена телка —
красива, пышна, но по-бабьи проста.
И вот председателя красит улыбка —
неловкая штука, смешна и груба…
Вернее — недолго, как мелкая рыбка,
на воздухе нижняя бьется губа.
И он выпрямляет усталую спину,
сопя переводит взволнованный дух —
он знает скотину, он любит скотину
постольку, поскольку он бывший пастух.
Дорога мертва. За полями и лесом
легко возникает лиловая тьма…
Она толстокожим покроет навесом
полмира, покрытая мраком сама.
И дальше нельзя. Непредвиденный
случай —
он сходит на землю, вонзая следы.
Он путника гонит громоздкою тучей
и хлестким жгутом воспаленной воды.
Гроза. Оставаться под небом не место —
гляди, председатель, грохочет кругом,
и пышная пыль, превращенная в тесто,
кипит под протертым твоим сапогом.
Прикрытье — не радость. Скорее
до дому —
он гонит корявые ноги вперед,
навстречу быку, сельсовету и грому,
он прет по пословице: бог разберет.
Слепит мирозданья обычная подлость,
и сумрак восходит, дремуч и зловещ.
Идет председатель, мурлыкая под нос,
что дождь — обязательно мокрая вещь.
Бормочет любовно касательно мокрых
явлений природы безумной, пустой…
Но далее песня навстречу и окрик,
и словно бы просьба: приятель, постой!..
Два парня походкой тугой и неловкой,
ныряя и боком, идут из дождя;
один говорит с непонятной издевкой,
что я узнаю дорогого вождя.
— Змеиное семя, зараза, попался,
ты нашему делу стоишь поперек…
Гроза. Председатель тогда из-под пальца
в кармане еще выпускает курок.
— Давно мы тебя, непотребного, ищем…
И парень храпит, за железо берясь.
Вода обалделая по топорищам
бежит, и клокочет, и падает в грязь.
Как молния, грянула высшая мера,
клюют по пистонам литые курки,
и шлет председатель из револьвера
за каплею каплю с левой руки.
Гроза. Изнуряющий, сладостный плен мой,
кипящие капли свинцовой воды, —
греми по вселенной, лети по вселенной
повсюду, как знамя, вонзая следы.
И это не красное слово, не поза —
и дремлют до времени капли свинца,
идет до конца председатель колхоза,
по нашей планете идет до конца.
Июнь 1932