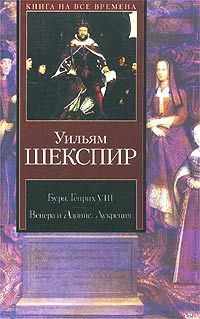Сюжет, заимствованный Шекспиром из «Фаст» («Месяцеслова») Овидия (кн. II), был обработав им близко к подлиннику. Важнейшие из отступлений относятся к началу и к концу поэмы. У Овидия Коллатин сам показывает Сексту Тарквинию свою жену, когда она ночью прядет; у Шекспира дело ограничивается только тем, что Коллатин рассказывает о красоте и целомудрии Лукреции. У Овидия повествование завершается предсказанием о том, что Секст Тарквиний потеряет свое царство. У Шекспира дано краткое изображение восстания, приведшего к изгнанию Тарквиния из Рима. Лирические отступления также являются шекспировскими и не навеяны непосредственно поэмой Овидия. Обрисовка характеров и описание переживаний Тарквиния и Лукреции — плод творческого воображения Шекспира.
Из лагеря Ардеи осажденной… — Ардея — столица племени Рутулов в восемнадцати милях от Рима.
Коллациум (точнее — Коллация) — город в пяти милях от Рима, место жительства Коллатина.
На герб червонный наложу бельмо я… — Согласно правилам рыцарской чести и геральдики, за нарушение достоинства полагалось закрашивать красным цветом изображение на гербе.
И, с тростника схватив ее… — В английских домах времен Шекспира пол устилался камышом.
Ведь сам Плутон внимал игре Орфея. — В древнегреческом мифе фракийский певец Орфей спустился в ад, чтобы вывести оттуда свою жену Эвридику. Своим пением он так полюбился царю преисподней Плутону, что тот отпустил Эвридику.
Арена для трагедии… — В том, что ночь ассоциируется в поэме с трагедией, видят намек на обычай английского театра эпохи Шекспира вывешивать черный навес над сценой во время представления трагедий (Э.Мелон).
…себя низрину в Лету… — В древнегреческой мифологии Лета — река забвения, воды которой души умерших должны испить перед вступлением в загробный мир для того, чтобы забыть обо всем, что было с ними при жизни.
…как у фонтана статуи наяд. — Наяды в античных мифах — фантастические существа, обитавшие в воде, в частности в водах фонтанов.
Прекрасное изображенье Трои… — Лукреция разглядывает картину, изображающую события, связанные с легендой о Троянской войне, составившей содержание поэмы Гомера «Илиада».
И лебедь бледный… — Намек на древнее поверье о том, что — лебедь перед смертью поет.
Брут — Юний Брут, первый из семьи Юниев получил прозвище — Брут (животное), так как, спасая свою жизнь от подозрительного дяди, царя Тарквиния, притворялся безумным, на что есть намек в поэме: «он блажь былую в ране [Лукреции] схоронил», то есть смерть Лукреции заставила его сбросить маску безумия.
А.Аникст
Жалобы влюбленной
Перевод В. Левика
Я, размышляя, на холме лежал
И вдруг услышал горьких жалоб звуки.
Покатый склон, удвоив, отражал
В лазурный купол этот голос муки.
То бурно плача, то ломая руки,
Шла девушка по берегу реки
И все рвала какие-то листки.
Соломенная шляпка затеняла
Ее лицо. Хранили все черты
Печать уже разрушенной немало,
Но все еще приметной красоты.
Был облик полон юной чистоты,
Но юность от безвременной кручины
Уже оделась в частые морщины.
Она пыталась, комкая платок,
Замысловатым вышитый узором,
Соленой влаги осушить поток,
Из глаз гонимый болью и позором,
На вышивку глядела влажным взором,
И горький стон или надрывный крик
Долину оглашал в подобный миг.
То взор ее, горящий исступленно,
Казалось, небо вызывал на бой,
То в землю устремлялся с небосклона,
То в горизонт вперялся голубой,
То вновь блуждал по сторонам с мольбой
И ни на чем не мог остановиться,
Готовый лишь безумью покориться.
Ее рука волос не убрала,
Забыв кокетства милые повадки.
От полурасплетенного узла
Вдоль бледных щек вились две тонких прядки.
Другие ниспадали в беспорядке,
Но меж собой еще хранили связь,
Кой-как под сеткой нитяной держась.
Она швыряла вглубь янтарь, кораллы,
Браслеты — все, что ей дарил он встарь,
И слезы в воду светлую роняла.
Так скаред грош кидает в полный ларь,
Так шлет подарки тароватый царь
Не в то жилье, что скудно и убого,
Но в изобилье пышного чертога.
Брала из сумки новые листки
Записки, письма нежные, — читала,
Задумывалась, полная тоски,
Читала вновь и, разорвав, кидала.
Из пачки, в шелк обернутой, достала
Другие — те, что для любимых глаз
Писались кровью в незабвенный час,
И, оросив слезами эти строки
Поблекшие, сама как смерть бледна,
Она вскричала: «Лицемер жестокий!
Так ложью кровь твоя заражена,
Что как чернила черной быть должна!»
И в гневе, разжигаемом любовью,
Она рвала написанное кровью.
Там стадо пас почтенный, человек.
Гуляка в прошлом, знал он двор блестящий
И шумный город, где провел свой век,
И знал, что боль пройдет, как час летящий.
Он слышал вопли девушки скорбящей,
Приблизился — и теплые слова
К ней обратил по праву старшинства.
На палку опираясь, он садится
Не рядом, но как вежливость велит
И молвит ей: «Откройся мне, девица,
О чем, скажи, душа твоя болит?
Зачем ты плачешь, от каких обид?
Поведай старцу!» — Добрый от природы,
Не стал он черствым, несмотря на годы.
Она в ответ: «Отец мой, если вы
По мне прочли, как жизнь играла мною,
Не думайте, что я стара, — увы!
Не бремя лет, лишь горе в том виною.
И я цвела б, как розмарин весною,
Поверьте мне, когда б одну себя
Могла любить, другого не любя.
Но слишком рано я вняла, к несчастью,
Мужской мольбе — недаром было в нем
Все то, что женщин зажигает страстью.
Любовь, ища себе надежный дом,
Отвергла все, что видела кругом,
И в нем нашла свой храм живой и зримый,
Чтобы навеки стать боготворимой.
Еще он бритвой не касался щек,
Едва пушком пробилась возмужалость,
И был нежнее кожи тот пушок.
Любовью подстрекаемая шалость
Решить неоднократно покушалась,
Как лучше он — с пушком иль без пушка;
Задача оказалась нелегка!
А волосы! Подкравшись от реки,
Любил зефир в тиши ночного сада
К его губам прижать их завитки.
Сердца спешат, когда их ждет отрада;
В него влюблялись с первого же взгляда,
И рая весь восторг и волшебство
Сулил плененным томный взор его.
Прекрасен был и дух его, как тело.
Девичья речь, но сколько силы в ней!
Мужчинам в спорах он перечил смело
И, ласковый, как ветер майских дней,
Являлся вихря зимнего страшней.
Считали правом юности строптивость,
А лжи служила маскою правдивость.
Каким красавцем на коне он был!
Казалось, конь гордится господином
И от него заимствует свой пыл.
Они скакали существом единым,
Загадку задавая всем мужчинам:
Седок ли счастлив на коне таком,
Иль счастлив конь под этим седоком.
Но каждый спор кончался на решенье,
Что меркнет все пред красотой его;
Он украшал любое украшенье
И сам был совершеннее всего.
Могло ль украсить что-нибудь его,
Когда сама прекраснее казалась
Та красота, что с ним соприкасалась!
Во всех вопросах рано искушен,
Владея даром слова превосходно,
Изведал все глубины знанья он,
Мог убедить кого и в чем угодно,
Веселье в грусть преображал свободно,
А горе в смех и, сам еще дитя,
Всех силой слова подчинял шутя.
Так властелином стал он над сердцами,
Мужчин и женщин обольстив равно,
И все служить ему тянулись сами,
Во всем, везде с ним были заодно.
И не казалось стыдно иль смешно
Ловить, предупреждать его желанья,
Не дожидаясь просьб иль приказанья.
Все жаждали иметь его портрет
И каждый день и час им любоваться.
Так празднолюбец, видевший весь свет,
Запомнить хочет виллу, парк, палаццо,
Чтобы чужим богатством наслаждаться
Хоть мысленно, хотя б на миг забыв,
Что сам богач, подагрик старый, жив.
И слова с ним не молвила иная,
А думала, что он в нее влюблен.
Так я сама пошла в силки, не зная,
Как был искусен, хоть и молод он,
Какой волшебной силой наделен.
Отдав ему цветок, едва созревший,
Осталась я как стебель пожелтевший.
Но я не уподобилась другим,
Его не домогалась я нимало.
Нет, защищая честь свою пред ним,
Я долго расстоянье соблюдала.
Твердил мне опыт: ты не раз видала,
Что у него для женщин два лица,
Что скуки ради губит он сердца.
Ах, но кого чужое учит горе,
Кому подскажет боль чужих обид,
Что сам он должен испытать их вскоре,
И кто грядущий день предотвратит?
Чью кровь совет хороший охладит?
Ему на миг желанье покорится,
Но тем сильнее снова разгорится.
Легко ли той, кто страстью сожжена,
Учиться в школе опыта чужого,
Любить не так, как хочет, — как должна.
Пускай рассудка дружеское слово
На пропасть указует ей сурово,
Пускай грозит бесчестьем горьким ей —
Что проку! Сердце разума сильней.
Я знала, что жесток он от природы,
Что слезы женщин радуют его,
Что любит он извилистые ходы,
Я видела довольный смех его,
Тщеславия мужского торжество,
И в письмах, в клятвах с самого начала
Я ложь и лицемерье различала.
И твердость я хранила много дней,
Но все молил он: „Сжалься, дорогая!
Внемли страданьям юности моей
И не готовь мне гибель, отвергая.
Верь, клятв моих не слышала другая,
На пир любви я зван был не одной,
Но хоть одна приглашена ли мной?
Я изменял, но не суди меня.
Тому лишь плоть, но не душа виною.
Где нет в сердцах взаимного огня,
Там быть не может верности. Не скрою,
Иных вела к позору связь со мною,
Но только тех, которым льстил позор,
И не меня, пусть их язвит укор.
Я многих знал, но не обрел подруги,
Искал — и не нашел у них тепла,
Я отдал не одной свои досуги,
Но ни одна мне сердце не зажгла.
Оно отвергло всех — им нет числа,
И над собою, чуждо мукам страстным,
Осталось господином полновластным.
Взгляни сюда: вот огненный рубин,
Вот бледный перл, и оба — дар любовный.
В них сходства нет, но их язык один
Отвергнутых причуд язык условный.
Цвет, полный крови, или цвет бескровный.
Они молчат, но как безмолвный взгляд
О всем, что скрыто в сердце, говорят.
Верь, все сердца, чей стон слился в моем,
Сочувствуя моей глубокой муке,
О дорогая, молят об одном:
Как друг, навстречу протяни мне руки
И без презренья, без холодной скуки
К мольбам и клятвам слух свой приклони:
Одну лишь правду говорят они“.
Так он сказал, и взор его поник,
К моим глазам прикованный дотоле,
А по щекам катился слез родник,
Свидетельство терзавшей сердце боли,
И рдели розы щек в его рассоле,
И, как роса, слезы живой кристалл
Их преломленным пламенем блистал.
О мой отец! Какая сила скрыта
В прозрачной капле, льющейся из глаз!
Пред ней смягчится сердце из гранита
И лед в груди растает тот же час.
Она двоякий отклик будит в нас:
Палящий гнев остынет и утихнет,
А холод сердца жаркой страстью вспыхнет.
Он знал, когда моих коснуться рук:
От слез мое сознанье помутилось,
Упал покров невинности, и вдруг
Стыд, робость, твердость — все куда-то скрылось.
Я вместе с ним слезами разразилась,
Но яд к своим он приметал слезам,
А сам в моих пил жизненный бальзам.
Да, он коварством отточил искусство,
Он мог в лице меняться как хотел,
Умел изображать любое чувство,
То вдруг краснел, то, побледнев как мел.
Молил и плакал и я слезах немел,
То дерзкий был, то робкий и покорный,
И даже падал в обморок притворный.
И сердца нет, которое могло бы
Сопротивляться красоте того,
Чья доброта была лишь маской злобы,
В чьих пораженьях крылось торжество,
Кто первый отрекался от всего,
Что восхвалял, и, похотью пылая,
На вид безгрешен был, как житель рая.
Так дьявола одел он наготу
Покровом красоты необоримым.
Неопытность он вовлекал в беду,
Невинности являлся херувимом,
Чтоб назвала она его любимым.
Увы, я пала! Но свидетель бог:
Меня бы вновь он одурачить мог!
О лицемерных слез его потоки!
О лживых слов неотвратимый яд!
О сладострастье, красившее щеки!
О гибельный для простодушья взгляд!
О скрытый целомудрием разврат!
У вас ни честь, ни скромность не в почете,
Вы в грех само раскаянье влечете!»
А.Аникст. Примечание к тексту «Жалоб влюбленной»
Поэма впервые напечатана в конце издания «Сонетов» (1609). Э.-К.Чемберс считает авторство Шекспира сомнительным и допускает вероятность предположения Дж. Робертсона о принадлежности поэмы Дж. Чепмену. Исследователь поэзии Шекспира Джордж Райлендс пишет: «Стиль этого мало оцененного елизаветинского шедевра „Жалобы влюбленной“ свидетельствует о шаге вперед по сравнению с лирической „Венерой и Адонисом“ и риторической „Лукрецией“».