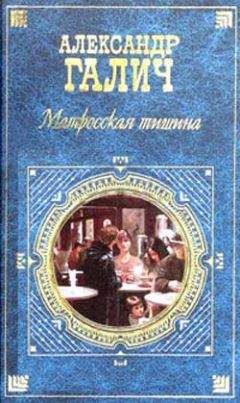Таня. Ах, так?!.
Таня постояла еще секунду, словно соображая, а затем решительно повернулась и пошла к дверям.
Давид. Танька!
Таня (звонко, дрожащим голосом). Ты грубый, невоспитанный, наглый, самовлюбленный, нахальный...
Давид (насмешливо). Ну, а еще?
Таня. И не приходи ко мне больше, и не звони, и... Все!
Таня выбегает, оглушительно хлопнув дверью. Молчание. Давид перегнулся через подоконник, высунулся на улицу, крикнул:
- Танька-а-а!..
Тишина. Только по-прежнему хрипит и захлебывается радиорепродуктор :
- ...Боец интернациональной бригады батальона имени Эрнста Тельмана заявил...
Давид встал, прошелся по комнате, взял скрипку.
Давид. Ну, и хорошо!.. Очень хорошо!.. И пожалуйста! (Он поднял скрипку, зашагал по комнате. Он играет бесконечные периоды упражнений Ауэра, зажав в зубах незажженную папиросу.) И раз, и два, и три... И раз, и два, и три...
Загудел поезд. Давид играет все ожесточеннее:
- И раз, и два, и три!.. И раз, и два, и три!.. И раз, и два, и три!..
Занавес
ТРЕТЬЯ ГЛАВА
Во втором антракте мы с женою быстро и молча поднялись и пошли курить.
Мы стояли в курилке, возле урны - с двух сторон, как часовые, - часто и с отвращением глотали дым.
- Во втором действии Евстигнеев был лучше, - сказала жена.
- Да, - сказал я, - а в третьем действии он будет еще лучше... Только это не имеет никакого значения !
- Да, - согласилась жена, - разумеется. Помолчав, она спросила.
- Ты очень огорчен?
- Нет, - сказал я, - все давно ясно... Это ребята на что-то еще надеются...
И в ту же секунду, точно в подтверждение моих слов, в курилку вбежал, влетел, ворвался Олег Табаков - в белой рубашке, заправленной в ватные штаны, и в тапочках на босу ногу. Во втором действии он исполнял роль Славы Лебедева, а в третьем будет играть роль "сына полка" Женьки Жаворонкова. В ту пору основной состав Студии насчитывал человек двадцать, и ряд актеров, занятых в моей пьесе, играли по две роли.
...Как странно мне бывает теперь - изредка, очень изредка - встречаться и церемонно раскланиваться с важным и представительным директором театра "Современник" Олегом Николаевичем Табаковым!..
Милое мальчишеское лицо Табакова блестело от пота.
Он подбежал ко мне и проговорил задыхающимся, плачущим голосом:
- Александр Аркадьевич, ребята просят... Ну, вы поговорите там с кем-нибудь!
- С кем, Олег? - изумился я.
- Ну, я не знаю... Ну, с этими - Соколовой, Соловьевой, черт их там разберет!
- О чем говорить? - спросил я. Откуда-то раздался отчаянный вопль:
- Табаков?! Давай по-быстрому!..
Олег махнул рукой и убежал.
Мы с женою переглянулись. Ничего еще, по сути, не было сказано, но тоскливое чувство обреченности, предрешенности, безнадежности и бессмысленности всего, что происходит, - это чувство, так всевластно царившее в зале, уже перелетело по каким-то неведомым законам через рампу и дошло до исполнителей.
- Ну, что ж, пойдем, - сказал я жене.
- Пойдем, - сказала она. - Может быть, ты хочешь зайти за кулисы? Посоветоваться? Может быть, действительно, еще что-то можно предпринять?
- Нет, - сказал я.
Мы вернулись в зрительный зал, заняли свои места.
Товстоногов, по-прежнему сидевший в стороне, неожиданно обернулся и, через несколько пустых рядов, разделявших нас, сказал мне негромко, но внятно, так что слова эти были хорошо слышны всем:
- Нет, не тянут ребята!.. Им - эта пьеса - пока еще не по зубам! Понимаете?!.
Солодовников внимательно, слегка прищурившись, поглядел на Товстоногова.
На бесстрастно-начальственном лице изобразилось некое подобие мысли. Слово было найдено! Сам того не желая, Товстоногов подсказал спасительно обтекаемую формулировку.
Ничего не нужно объяснять, ничего не нужно запрещать, что касается автора, то он волен распоряжаться собственной пьесой по собственному усмотрению, что же касается студийцев, то это, в конце концов, неплохо, что они в учебном порядке поработали над таким чужеродным для них материалом - а теперь надо искать соответствующую, близкую по духу, жизнеутверждающую драматургию - спасибо, товарищи! За работу, товарищи! Вперед и выше, товарищи!..
Все это Солодовников выпалит за кулисами, после конца спектакля, бодрой, слегка пришепетывающей скороговоркой. Потом он пожмет руку мне, пожмет руку Ефремову, еще раз-благодарно - улыбнется всем участникам спектакля и быстро, не допуская никаких вопросов, уйдет.
И все будет кончено!..
...А из-за закрытого занавеса раздавался стук молотков, невнятные голоса, что-то грохотало, что-то падало.
Декорация третьего действия - учитывая отсутствие настоящих декораций была наиболее сложной. Действие происходит в санитарном поезде, в так называемом "кригеровском" вагоне для тяжелораненых.
...Мне в подобном вагоне лежать не приходилось, а вот выступать, в войну, доводилось не раз. Чувствуя, как першит в горле от сладковатого запаха карболки, иода, запекшейся крови, я читал "Графа Нулина", пел под гитарный аккомпанемент частушки.
Я сочинял их обычно тут же, на ходу, после предварительного разговора с комиссаром или начальником поезда.
Частушки эти были крайне незамысловатыми, но зато в них упоминались подлинные имена раненых и медицинского персонала, описывались подлинные события - чаще всего комедийные - и поэтому они пользовались неизменным, незаслуженно шумным успехом.
После концерта нас обычно вели в вагон-столовую - кормить ужином.
Санитарки - "хожалочки" - всегда миловидные, в белых халатиках, перетянутых в талии, в кокетливо примятых белых шапочках, подавали нам еду в жестяных мисках, посмеивались и перемигивались.
А потом появлялся начальник поезда, садился во главе стола, делал выразительный жест большим пальцем правой руки - и все догадливо хихикали артист, он, мол, и есть артист, ему без ста граммов никак невозможно!
Приносили бутыли со спиртом и большие кружки. Спирт наливали в граненые стаканы, а в кружки воду - запивать.
Тот же начальник, как правило, произносил первый тост - за родного, любимого, дорогого вождя и учителя, гениального полководца всех времен и народов, товарища Сталина, который ведет нас от победы к победе.
И мы все, стоя, в торжественном молчании - а кое-кто и со слезами на глазах - пили за этот тост.
Постукивали колеса поезда, проносились за окнами, не отпечатываясь в сознании, какие-то перелески и разбитые поселки, дребезжали на столе, покрытом клеенкой, миски, кружки, стаканы.
А мы пили спирт, и в груди у нас что-то теплело, мы смотрели друг на друга с участием и любовью - нам было хорошо! Ах, как нам было хорошо!
Мы все вместе - пусть каждый по-своему - делали одно великое общее дело: мы защищали нашу Родину, наше прекрасное прошлое и еще более прекрасное будущее, наши светлые коммунистические идеалы, нашу свободу, равенство, братство.
И почти с той же неизменностью, как первый тост, появлялась в разгаре ужина какая-нибудь санитарка или нянечка, подходила, смущаясь, к начальнику поезда, что-то негромко говорила ему. И начальник смотрел на меня, ухмылялся:
- Извините, вас, товарищ артист, в "кригеровский" вагон просят... Очень хотят снова частушки прослушать!..
Начальник ухмылялся еще шире:
- Ну, насчет Дорофеева и других... И я поднимался, выходил из-за стола, брал гитару и шел в "кригеровский" вагон для тяжелораненыхпеть частушки про Дорофеева и других.
"Кригеровский" вагон для тяжелораненых! Санитарный поезд!
Пожалуй, это единственное лечебное заведение, в котором я только выступал, а не лежал сам. Я валялся в полевых-походных и тыловых госпиталях - с ожогом второй степени, с флегмоной, с подозрением на бруцеллез.
После войны, когда у меня совершенно неожиданно обнаружилась тяжелая болезнь сердца, я не реже чем раз в два года - а порою и значительно чаще попадал в какую-нибудь очередную больницу.
Я лежал, случалось, и в привилегированных отделениях, принадлежащих Санитарному управлению Кремля - в отдельных палатах с собственным санузлом, где только на одно питание выделяется два рубля тридцать копеек в день на человека.
Отделения эти у простых смертных называются "Отделениями для слуг народа".
И лежал я в отделениях "для народа": в палатах на двадцатьдвадцать пять человек, где, чтобы попасть в уборную, надо становиться в очередь, где дозваться нянечку или сестру можно только после получасового непрерывного крика - звонков нет, и где питание обходится в восемьдесят копеек.
Разумеется, я никогда не лежал в лечебницах для самых главных "слуг народа", для самых бескорыстных и беззаветных его слуг - в "Кремлевке", в Барвихе, в Кунцеве.
О том, какие условия и какие яства подаются там - рассказывают только шепотом, недоверчиво покачивая головами и молитвенно закатывая глаза.
Впрочем - и условия, и яства для больного человека, для действительно больного человека, все-таки - дело второстепенное. Гораздо важнее другое уход и лекарства. Так вот, с лекарствами в отделениях "для народа" особенная беда. Я уж не говорю о редких заграничных препаратах, анальгина или кодеина - и тех не допросишься!