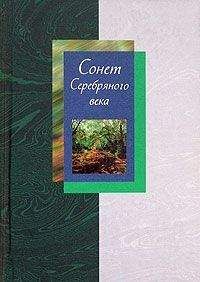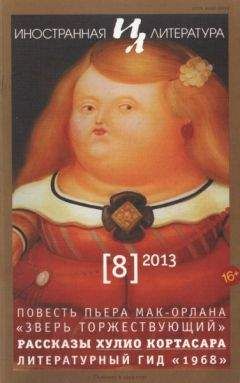Ознакомительная версия.
Январь 1919
Я Гумилеву отдавал визит,
Когда он жил с Ахматовою в Царском,
В большом прохладном тихом доме барском,
Хранившем свой патриархальный быт.
Не знал поэт, что смерть уже грозит
Не где-нибудь в лесу Мадагаскарском,
Не в удушающем песке Сахарском,
А в Петербурге, где он был убит.
И долго он, душою конкистадор,
Мне говорил, о чем сказать отрада.
Ахматова устала у стола,
Томима постоянною печалью,
Окутана невидимой вуалью
Ветшающего Царского Села...
1924 Estonia – Toila
Она была худа, как смертный грех,
И так несбыточно миниатюрна...
Я помню только рот ее и мех,
Скрывавший всю и вздрагивавший бурно.
Смех, точно кашель. Кашель, точно смех.
И этот рот – бессчетных прахов урна...
Я у нее встречал богему, – тех,
Кто жил самозабвенно-авантюрно.
Уродливый и бледный Гумилев
Любил низать пред нею жемчуг слов,
Субтильный Жорж Иванов – пить усладу,
Евреинов – бросаться на костер...
Мужчина каждый делался остер,
Почуяв изощренную Палладу...
Estonia – Toila
Поcв.книги «Медальоны. Сонеты и вариации о поэтах, писателях и композиторах»
Предчувствовать грядущую беду
На всей земле и за ее пределом
Вечерним сердцем в страхе омертвелом
Ему ссудила жизнь в его звезду.
Он знал, что Космос к грозному суду
Всех призовет, и, скорбь приняв всем телом,
Он кару зрил над грешным миром, целом
Разбитостью своей, твердя: «Я жду».
Он скорбно знал, что в жизни человечьей
Проводит Некто в сером план увечий,
И многое еще он скорбно знал,
Когда, мешая выполненью плана,
В волнах грохочущего океана
На мачту поднял бедствия сигнал.
1926
Послушница обители Любви
Молитвенно перебирает четки.
Осенней ясностью в ней чувства четки.
Удел – до святости непоправим.
Он, Найденный, как сердцем ни зови,
Не будет с ней в своей гордыне кроткий
И гордый в кротости, уплывший в лодке
Рекой из собственной ее крови.
Уж вечер. Белая взлетает стая.
У белых стен скорбит она, простая.
Кровь капает, как розы, изо рта.
Уже осталось крови в ней немного,
Но ей не жаль ее во имя бога;
Ведь розы крови – розы для креста...
1925
В пути поэзии, – как бог, простой
И романтичный снова в очень близком, —
Он высится не то что обелиском,
А рядовой коломенской верстой.
В заумной глубине своей пустой —
Он в сплине философии английском,
Дивящий якобы цветущим риском,
По существу, бесплодный сухостой...
Безумствующий умник ли он или
Глупец, что даже умничать не в силе —
Вопрос, где нерассеянная мгла.
Но куклу заводную в амбразуре
Не оживит ни золото в лазури,
Ни переплеск пенснэйного стекла...
1926
Искателям жемчужин здесь простор:
Ведь что ни такт – троякий цвет жемчужин.
То розовым мой слух обезоружен,
То черный власть над слухом распростер.
То серым, что пронзительно остер,
Растроган слух и сладко онедужен.
Он греет нас и потому нам нужен,
Таланта ветром взбодренный костер.
Был день – толпа шипела и свистала.
Стал день – влекла гранит для пьедестала.
Что автору до этих перемен!
Я верю в день, всех бывших мне дороже,
Когда сердца вселенской молодежи
Прельстит тысячелетняя Кармен!
1926
Красив, как Демон Врубеля для женщин,
Он лебедем казался, чье перо Белей, чем облако и серебро,
Чей стан дружил, как то ни странно, с френчем...
Благожелательный к меньшим и меньшим,
Дерзал – поэтно видеть в зле добро.
Взлетал. Срывался. В дебрях мысли брел.
Любил Любовь и Смерть, двумя увенчан.
Он тщетно на земле любви искал:
Ее здесь нет. Когда же свой оскал
Явила смерть, он понял: – Незнакомка...
У рая слышен легкий хруст шагов:
Подходит Блок. С ним – от его стихов
Лучащаяся – странничья котомка...
1925
Его воспламенял призывный клич,
Кто б ни кричал – новатор или Батый...
Немедля честолюбец суховатый,
Приемля бунт, спешил его постичь.
Взносился грозный над рутиной бич
В руке, самоуверенно зажатой,
Оплачивал новинку щедрой платой
По-европейски скроенный москвич.
Родясь дельцом и стать сумев поэтом,
Как часто голос свой срывал фальцетом,
В ненасытимой страсти все губя!
Всю жизнь мечтая о себе, чугунном,
Готовый песни петь грядущим гуннам,
Не пощадил он, – прежде всех, – себя...
1926
В его стихах—веселая капель,
Откосы гор, блестящие слюдою,
И спетая березой молодою
Песнь солнышку. И вешних вод купель.
Прозрачен стих, как северный апрель.
То он бежит проточною водою,
То теплится студеною звездою,
В нем есть какой-то бодрый, трезвый хмель.
Уют усадеб в пору листопада
Благая одиночества отрада.
Ружье. Собака. Серая Ока.
Душа и воздух скованы в кристалле.
Камин. Вино. Перо из мягкой стали.
По отчужденной женщине тоска.
1925
Он предсказал подводные суда
И корабли, плывущие в эфире.
Он фантастичней всех фантастов в мире
И потому – вне нашего суда.
У грез беспроволочны провода,
Здесь интуиция доступна лире.
И это так, как дважды два – четыре,
Как всех стихий прекраснее – вода.
Цветок, пронизанный сияньем светов,
Для юношества он и для поэтов,
Крылатых друг и ползающих враг.
Он выше ваших дрязг, вражды и партий.
Его мечты на всей всемирной карте
Оставили свой животворный знак.
1927
Ее лорнет надменно-беспощаден,
Пронзительно-блестящ ее лорнет.
В ее устах равно проклятью «нет»
И «да» благословляюще, как складень.
Здесь творчество, которое не на день,
И женский здесь не дамствен кабинет...
Лью лесть ей в предназначенный сонет,
Как льют в фужер броженье виноградин.
И если в лирике она слаба
(Лишь издевательство – ее судьба!) —
В уменье видеть слабость нет ей равной.
Кровь скандинавская прозрачней льда,
И скован шторм на море навсегда
Ее поверхностью самодержавной.
1926
Мог выйти архитектор из него:
Он в стилях знал извилины различий.
Но рассмешил при встрече городничий,
И смеху отдал он себя всего.
Смех Гоголя нам ценен оттого, —
Смех нутряной, спазмический, язычий, —
Что в смехе древний кроется обычай:
Высмеивать свое же существо.
В своем бессмертье мертвые мы души.
Свиные хари, и свиные туши,
И человек, и мертвовекий Вий —
Частицы смертного материала...
Вот, чтобы дольше жизнь не замирала,
Нам нужен смех, как двигатель крови...
1926
Рассказчику обыденных историй
Сужден в удел оригинальный дар,
Врученный одному из русских бар,
Кто взял свой кабинет с собою в море...
Размеренная жизнь – иному горе,
Но не тому, кому претит угар,
Кто, сидя у стола, был духом яр,
Обрыв страстей в чьем ограничен взоре...
Сам, как Обломов, не любя шагов,
Качаясь у японских берегов,
Он встретил жизнь совсем иного склада,
Отличную от родственных громад,
Игрушечную жизнь, чей аромат
Впитал в свои борта фрегат «Паллада».
1926
Талант смеялся... Бирюзовый штиль,
Сияющий прозрачностью зеркальной,
Сменялся в нем вспененностью сверкальной,
Морской травой и солью пахнул стиль.
Сласть слез соленых знала Изергиль,
И сладость волн соленых впита Мальвой
Под каждой кофточкой, под каждой тальмой —
Цветов сердец зиждительная пыль.
Всю жизнь ничьих сокровищ не наследник,
Живописал высокий исповедник
Души, смотря на мир не свысока.
Прислушайтесь: в Сорренто, как на Капри,
Еще хрустальные сочатся капли
Ключистого таланта босяка.
1926
Тяжелой поступью подходят гномы.
Всё ближе. Здесь. Вот затихает топ
В причудливых узорах дальних троп
Лесов в горах, куда мечты влекомы.
Студеные в фиордах водоемы.
Глядят цветы глазами антилоп.
Чьи слезы капают ко мне на лоб?
Не знаю чьи, но как они знакомы!
Прозрачно капли отбивают дробь.
В них серебристо-радостная скорбь.
А капли прядают и замерзают.
Сверкает в ледяных сосульках звук.
Сосулька сверху падает на луг.
Меж пальцев пастуха певуче тает.
1927
Ознакомительная версия.