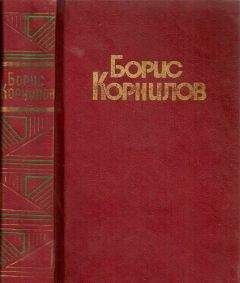1932
Пышные дни — повиновная в этом,
от Петрограда и от Москвы
била в губернию ты рикошетом,
обороняясь, ломая мосты.
Дрябли губерний ленивые туши,
ныли уездов колокола,
будто бы эхом, ударившим в уши,
ты, запоздавшая на день, была…
В городе Энске — тоска и молчанье,
земские деятели молчат,
ночью — коровье густое мычанье,
утром — колодцы и кухонный чад.
Нудные думы, посылки солдату
и ожидание третьей зимы, —
ветер срывает за датою дату,
только война беспокоит умы.
А на окрайне, за серой казармой,
по четвергам — неурядица, гам;
это на площади — грязной, базарной —
скудное торжище по четвергам.
Это — смешную затеяли свару,
мокрыми клочьями лезет земля,
бедность, качаясь, идет по базару —
и ужасает паденье рубля.
Славно разыграно действо по актам —
занавес дайте, довольно войны!
И революция дует по трактам,
по бездорожью унылой страны —
лезет огнем и смятеньем по серым,
вялым равнинам и тощим полям, —
будет работа болтливым эсерам,
земским воякам с тоской пополам.
Встали они — сюртуки нараспашку,
ветер осенний летит напрямик —
он чесучовую треплет рубашку
и освежает хотя бы на миг.
Этой же осенью, вялой и хмурой,
в черное небо подъемля штыки,
с послетифозною температурой
в город вступают фронтовики —
те, что в окопах, как тучи, синели,
черною кровью ходили в плену,
на заграждениях рвали шинели
и ненавидели эту войну.
Вот и пришли повидаться с родными,
кости да кожа, — покончив с войной,
передохнуть, — но стоят перед ними
земские деятели стеной.
Как монументы. Понятно заранее —
проповедь будет греметь свысока,
и благородное негодование хлынет,
не выдержав, с языка.
Их, расторопных, не ловят на слове,
как на горох боязливых язей, —
так начинается битва сословий
и пораженье народных друзей.
Земец недолго щебечет героем —
звякнули пламенные штыки,
встали напротив сомкнутым строем,
замерли заживо фронтовики.
Песни о родине льются и льются.
Надо ответное слово — и вот
слово встает: «По врагам революции,
взво-од…»
Что же? Последняя песенка спета,
дальше команда: «Отставить!» —
как гром…
Кончилось лето. Кончилось лето —
в городе дует уже Октябрем.
1932
Ночь, покрытая ярким лаком,
смотрит в горницу сквозь окно.
Там сидят мужики по лавкам —
все наряженные в сукно.
Самый старый, как стерва зол он,
горем в красном углу прижат —
руки, вымытые бензолом,
на коленях его лежат.
Ноги высохшие, как бревна,
лик от ужаса полосат,
и скоромное масло ровно
застывает на волосах.
А иконы темны, как уголь,
как прекрасная плоть земли,
и, усаженный в красный угол,
как икона, глава семьи.
И безмолвие дышит: нешто
все пропало? Скажи, судья…
И глядят на тебя с надеждой
сыновья и твои зятья.
Но от шороха иль от стука
все семейство встает твое,
и трепещется у приступка
в струнку замершее бабье.
И лампады большая плошка
закачается на цепях —
то ли ветер стучит в окошко,
то ли страх на твоих зубах.
И заросший, косой как заяц, твой
неприятный летает глаз:
— Пропадает мое хозяйство,
будь ты проклят, рабочий класс!
Только выйдем — и мы противу —
бить под душу и под ребро,
не достанется коллективу
нажитое мое добро.
Чтобы видел поганый ворог,
что копейка моя дорога,
чтобы мозга протухший творог
вылезал из башки врага…
И лица голубая опухоль
опадает и мякнет вмиг,
и кулак тяжелее обуха
бьет без промаха напрямик.
Младший сын вопрошает: «Тятя!»
Остальные молчат — сычи.
Подловить бы, сыскать бы татя,
что крадется к тебе в ночи.
Половицы трещат и гнутся —
поднимается старший сын:
— Перебьем, передавим гнуса,
перед богом заслужим сим.
Так проходят минуты эти,
виснут руки, полны свинца,
и навытяжку встали дети —
сыновья своего отца.
А отец налетает зверем,
через голову хлещет тьма:
— Всё нарушим, сожжем, похерим —
скот, зерно и свои дома.
И навеки пойдем противу —
бить под душу и под ребро, —
не достанется коллективу
нажитое мое добро.
Не поверив ушам и глазу,
с печки бабка идет тоща,
в голос бабы завыли сразу,
задыхаясь и вереща.
Не закончена действом этим
повесть правильная моя,
самый старый отходит к детям —
дальше слово имею я.
Это наших ребят калеча,
труп завертывают в тряпье,
это рухнет на наши плечи
толщиною в кулак дубье.
И тогда, поджимая губы,
коренасты и широки,
поднимаются лесорубы,
землеробы и батраки.
Руки твердые, словно сучья,
камни, пламенная вода
обложили гнездо паучье,
и не вырваться никуда.
А ветра, грохоча и воя,
пролагают громаде след.
Скоро грянет начало боя.
Так идет на совет — Совет.
1932
Ты запомни, друг мой ситный,
как, оружием звеня,
нам давали ужин сытный,
состоящий из огня.
Ловко пуля била, шельма, —
свет в очах моих померк,
только помню ус Вильгельма,
указующий наверх.
Неприятные вначале
испытали мы часы, —
как штыки тогда торчали
знаменитые усы.
Непогода дула злая,
в небе тучи велики,
во спасенье Николая
мы поперли на штыки.
Как бараны мы поперли
со стеснением в груди —
тонкий вой качался в горле,
офицеры позади…
Сиятельные мальчики полков
его величества,
мундиры в лакированных и узеньких
ремнях
увешаны медалями, ботфорты
замшей вычистя,
как бы перед фотографом
сидели на конях.
За неудобства мелкие в походе
вроде простыни,
за волосок, не срезанный
с напудренной щеки,
украшенные свежими на физии коростами
и синяками круглыми ходили денщики.
А что такое простыни? Мы простыней
не видели,
нас накормили досыта похлебкой из огня,
шинель моя тяжелая, источенная
гнидами, —
она и одеяло мне, она и простыня.
А письма невеселые мы получали
с родины,
что наша участь скверная —
ой-ой нехороша,
что мы сначала проданы, потом опять
запроданы,
в конечном счете дешевы — не стоим
ни гроша.
Что дома пища знатная —
в муку осина смолота,
и здорово качало нас
от этих новостей,
но ничего там не было — в России —
кроме голода,
что шупальцы вытягивал
из разных волостей.
А отдых в лучшем случае один —
тифозный госпиталь,
где пациент блаженствует и ест
на серебре, —
мы плюнули на родину и харкнули
на господа,
и место наше верное нашли мы
в Октябре.
Держава мать Российская,
мы нахлебались дымного,
тебе за то почтение во век веков летит —
благодарим поклонами — и в первый раз
у Зимнего
мы проявили маленький,
но всё же аппетит.
Мясное было кушанье, а штык остер,
как вилочка.
Свою качая родину, пошли фронтовики,
и пригодилась страшная
и фронтовая выучка,
штыки четырехгранные…
Да здравствуют штыки!
<1933>