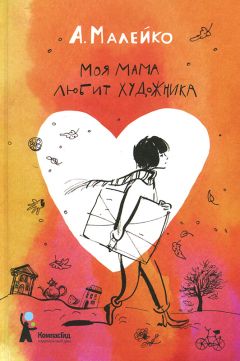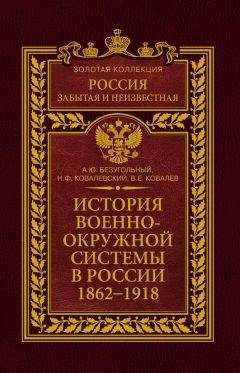Сосед Борис Моисеевич, конечно, эвакуировался, это можно понять: его жена и дети попали в концлагерь и потерялись на долгие тридцать лет. Украинская семья из средней комнаты — тоже уехала. Баба Маня осталась одна в квартире. Борис Моисеевич продал бабе Мане перед отъездом полное собрание сочинений В. И. Ленина. О чем она думала? Ну то есть понятно, она думала о пользе своего приобретения, а не о том, что, если в Москву войдут немцы, эта книжная полка решит ее участь.
Санитарный эшелон, на котором ездила ее дочь, остановился на подъездах к Москве. Дочери удалось сообщить матери, что сутки она будет в зоне доступа, как теперь говорят. Баба Маня шла пешком по пустому городу через всю Москву: отсюда, от Бауманской, к Выставке народного хозяйства, куда-то по путям, под мостами, под дирижаблями. Пришла и упала в голодный обморок: дома давно уже нечего было есть. Санитарки отдали ей свои пайки, сколько та смогла унести. Дочь — главная в вагоне для тяжелораненых. Гамаки подвешены к потолкам, в гамаках таким вот — обожженным, безруким-безногим, с развороченными кишками — полегче качаться на стыках в дальней дороге на восток.
В сорок седьмом году из нашего дома в этот дворик вышла высокая худая женщина в светлом брючном костюме и с коконом светло-русых волос на голове. Вызов нравам? Первый брючный костюм в районе — трофейный, из самого Берлина. Это — моя бабушка. Меццо-сопрано. Красотка: тонкие губы, жесткий взгляд, узкие бедра. Той круглолицей, с косами, уложенными корзиночкой, девочки не стало. Из Берлина — куда ей еще возвращаться — приехала Марлен Дитрих. Привезла годовалую дочку и мужа-украинца, Петровича. Баба Маня встречала на Белорусском. Она проглядела все глаза, сопротивляясь людскому потоку, хлынувшему из вагонов. Вдруг увидела дочь — молодую чужую женщину, рядом — высокого крупного фронтовика, несущего ребенка. Рванулась вперед, схватила внучку — мою маму — и ни слова не говоря пошла впереди семьи с драгоценной ношей на руках. Баба Маня. Марией меня назвали в честь нее.
А потом я училась в школе имени Пушкина № 353. Дом № 40, который стоял на месте нашей школы слышал первый крик младенца Александра. Но только спустя сорок лет я осознала, что мы с Пушкиным родились на одной улице. Это ничего не значит, кроме, пожалуй, одного — нас напитал один воздух, одна атмосфера Немецкой слободы, один говор, один город — та Москва, которая еще жива и добра ко мне, моя Бауманская улица.
1
Три старые женщины уселись ждать меня. На стол постелена пеленка. Греет солнце. Пыль убрана. И, мухою звеня, доходит колокол: влетел и в окна бьется. Меня везут. За мной отправлен тот, кто воплотил меня, но в руки не возьмет. Цветет сирень, и всякие дела… Начало мая. Пахнет черноземом. Меня в мучениях мама родила с мужским характером, но девичьим разъемом.
Три женщины глядят на пустоту пеленки, озираются, как мышки. Меня везут с пустышкою во рту, с кривой улыбкою из-под пустышки. Меня везут. Меня пока что нет для женщин этих, для пеленки бедной. Ма-те-ри-а-ли-за-ци-я — сюжет для следующих глав… Звонок в передней.
2
В конверте не казенном, но простом меня внесли к трем женщинам. Вестимо, сначала я была письмом. Письмом! от одного смешного анонима. Он всей семье был общий аноним. Конверт раскрыли. Мы его храним.
И вот лежу я, голая, на плоском столе, как на подносе в овощах невиданная вырезка. О плотском еще нет речи. Речь о тех вещах, которые нематерьяльны все же. Одна — давай меня читать взахлеб, другая — орфографию, похоже, проверила, без богохульства чтоб. А третья — посмотрев меня на свет — прочла, чего без света в тексте нет.
За спинами трех старших матерей стояла тощей девочкой кровящей с джокондиной ухмылкою кормящей родившая меня — меня мертвей. Дитя себе рожала на подмогу в войне с родней, вот с этими тремя.
Одна мне пела, шариком гремя, другая рожи корчила, ей-богу. Арину Родионовну мою оттерли эти двое, мне родные. Отец смотрел, как женщины в раю и то играют в игры ролевые.
Он знал — во мне уже кипит протест. Он перечел меня и понял текст.
3
Глаза и разум, связь не обретя, фиксировали возгласы и лица. Я знала: эти будут разводиться, а эти вот распиливать дитя. В одной старухе воплотится монстр, другая про меня забудет завтра, у матери пойдет червями мозг, а третья — няня — отойдет внезапно настолько, что останется секрет: что я такое, если на просвет.
4
За окнами летал московский пух, как будто он — рассеявшийся Дух, рассеянный, рассерженный, ретивый. Консилиум из ангелов решал, кого им век двадцатый нарожал, какой мы им чреваты перспективой.
Мне ангел был положен по всему. Но я не доставалась никому, в том смысле, что с рожденья сверху светом просвечена насквозь.
— Живи поэтом…
Короче, был на мне поставлен крест. Крестом отмечен дом мой и подъезд. Поэзия, в которой мало смысла, в меня вошла, но, в целом, боком вышла. Я — маленькое голое дитя, распластанное свежим эскалопом перед родней, вовсю уже светя, так с родовою травмой, остолопом все верила — поэзия спасет! бессмертие случится! всем приветы!..
Две тысячи одиннадцатый год. Низложены и боги, и поэты.
ЭпилогЯ — маленькое тельце на столе. Я — мертвенное сердце в детской тушке. Прощайте все, кто живы на Земле. Меня везут обратно три старушки. Да это страшный сон!!! Да это бред!!!
— Вы очумели, — я кричу, — поэта сдавать обратно, видано ли это? Вам без меня неясен будет свет! Вам будет свет немил и нелюбим.
А мне твердят: сейчас тебя съедим.
— Скорее в глушь, в конверт, в простую книжку!
Сюда — ни-ни! Пустышку мне, пустышку!
1
Все сменится, а что взамен придет
Мне безразлично. Но хотелось вот
Что мне оставить своему дитяте:
Кусок Москвы старинной на закате,
Советских песен пафосную горсть,
Для воскрешенья собственную кость.
Пускай ему останется в наборе
Величье человека априори
И малость первородная его,
Его случайность, хрупкость и ранимость
И, собственно, его неповторимость,
Моей над ним защиты волшебство.
Пусть это все оберегает сына,
Когда уйду и сменится картина
Вселенной, потому что я — ушла.
Но где-то там, за домом, есть береза,
Она — свидетель, вся метаморфоза
Лишь в смене естества и ремесла.
2
Голова моя — смеситель
Для добра и зла.
Перекрой меня, Спаситель,
Чтобы не текла.
У меня кровят лопатки
И саднят уста.
Я с тобой сыграю в прятки,
Досчитай до ста.
Была Машкой, буду мошкой
Весь апрель и май.
Закрывай глаза ладошкой,
Не подсматривай.
3
Народ на работу.
Наплыв к девяти.
По улице длинной.
У каждого клерка
Синица в горсти
И взгляд журавлиный.
Гуськом, вереницей,
Цепочкой идут
В затылок друг другу.
Какие тяжелые
Годы грядут
По кругу, по кругу.
4
Памяти С. Л.
Ты дуришь, дуришь тех,
кто по тебе скорбит.
Так говорит мне ветер,
Срывающийся с орбит.
Я хочу похудеть,
В кофе кладу сорбит,
Если заявишься вдруг,
Чтобы — приличный вид.
Ты проезжаешь мимо,
Локоть торчит в окно.
Думаю, это оно,
Доказательство мира,
Которому на остановке
Я кричу, как на помолвке:
— Горько! Вира!
Ты мне мерещишься, что ли,
На Разгуляе этом?
Светофор заливается красным светом,
Воем и отсутствием воли.
У тебя подвернуты рукава рубашки,
Волосатые руки, а в волосах мурашки.
И глаза вылезают из век от боли.
И я оставляю тебя в покое.
И я оставляю тебя в покое.
Я тебя отпускаю на зеленый свет светофора.
Я поднимаюсь все выше над остановкой, и скоро
Вира и майна встретятся,
как война и мир по роману.
Смерть — это майна помалу.
В Разгуляе звон стопарей.
У Елохи вой тропарей.
Кто тут Русь святая? Скорей
Получайте новых царей.
С Филаретом сын Михаил
Два часа в обнимку ходил,
Плакали друг другу в плечо:
Поднимать Россию ли чо?
Сколь бы не ходили на ны
Речи Посполитой паны,
Казакам китай[1]— не редут,
Но они во грех не войдут.
Казаки народ кочевой,
Конашевич, их кошевой,
Подпирал, по галкам паля,
Восемь дён ворота Кремля.
Думал, посеку новый куст,
Будет дом Романовых пуст.
Только православных тетех
Православным скармливать — грех.
И увел, как есть, на Покров
Стаю запорожских орлов.
Вот поди теперь разгадай…
Разгуляй ты мой, Разгуляй!
Мы в селе Рубцове[2], раз-два,
Выстроим собор Покрова,
За того Петра Коноша,
Что уехал прочь, не греша.
«Прощенья просила, коленки дробя…»