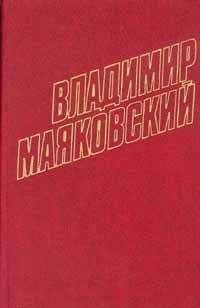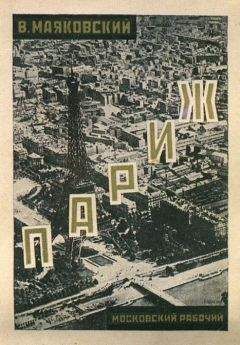Владимир Маяковский - Париж (1924-1925)
На электронном книжном портале my-library.info можно читать бесплатно книги онлайн без регистрации, в том числе Владимир Маяковский - Париж (1924-1925). Жанр: Поэзия издательство -, год 2004. В онлайн доступе вы получите полную версию книги с кратким содержанием для ознакомления, сможете читать аннотацию к книге (предисловие), увидеть рецензии тех, кто произведение уже прочитал и их экспертное мнение о прочитанном.
Кроме того, в библиотеке онлайн my-library.info вы найдете много новинок, которые заслуживают вашего внимания.
Название:
Париж (1924-1925)
Автор
Жанр
Издательство:
-
ISBN:
нет данных
Год:
-
Дата добавления:
17 сентябрь 2019
Количество просмотров:
177

Владимир Маяковский - Париж (1924-1925) краткое содержание
Владимир Маяковский - Париж (1924-1925) - описание и краткое содержание, автор Владимир Маяковский, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки My-Library.Info
В основу цикла стихотворений «Париж» (поэма, по определению автора) легли впечатления от поездки поэта во Францию в ноябре — декабре 1924 года.
Париж (1924-1925) читать онлайн бесплатно
Париж (1924-1925) - читать книгу онлайн бесплатно, автор Владимир Маяковский