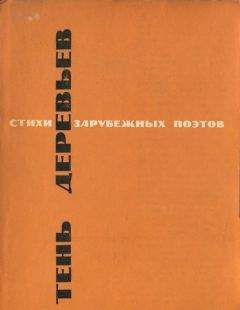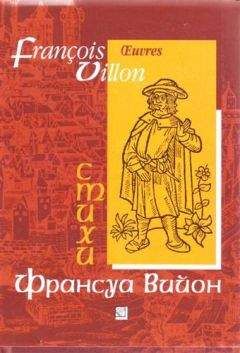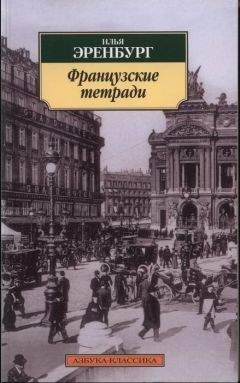Впервые после 1914 года антология «Поэты Франции» перепечатывается почти целиком. Исключение составляет отрывок из стихотворения Маринетти «Мое сердце из красного сахара». Написанное по-французски, это стихотворение, как и все творчество Маринетти, несомненно, принадлежит итальянской поэзии. Для точности укажем, что стихи Франсиса Жамма, присутствовавшие в антологии, перенесены из нее в раздел Франсиса Жамма на те места, где они и находились в книге последнего.
В долгой, полной событий и свершений жизни Ильи Эренбурга любовь к поэзии — родной, русской, а также к французской, в меньшей степени к испанской — была переживанием огромной силы и длительности. Были целые годы, когда Илья Эренбург не писал и не переводил стихов. Однако, судя по всему, не было и дня, когда бы он не читал стихов, не бормотал их на ходу, не жил стихами. Сильнее, чем прозу, сильнее, чем живопись, не говоря уже о других видах искусства, Илья Эренбург чувствовал поэзию.
Мне кажется несомненным, что на его ранние стихи повлияли и Жамм и поэты испанского средневековья, что именно Аполлинер почти в такой же степени, как Маяковский или Цветаева с Мандельштамом, соседствовал в его привязанностях периода революции и гражданской войны. Если говорить о поэтическом творчестве Ильи Эренбурга последних десятилетий, когда поэт стал вполне самостоятельным, нельзя не вспомнить о его попытках передать русским стихом свойственную французской просодии силлабику, нельзя не вспомнить душевного сродства испанской книги Неруды с испанскими стихами русского поэта, а также и того, что Вийон, над которым Илья Эренбург работал всю жизнь, иной раз звучит странным эхом в его поздних стихах. Однако поэзия позднего Ильи Эренбурга слишком тесно связана с русской и советской традицией, чтобы поиски иноземных влияний были хоть сколько-нибудь плодотворными. Тютчев и Блок — поэты всей жизни Ильи Эренбурга, по влиянию на него сравнимые только с Чеховым. А из своих непосредственных современников Илья Эренбург чаще всего называл Маяковского, Цветаеву, Мандельштама, Пастернака, Ахматову, Есенина и в последние годы Заболоцкого. Всего лишь за день до смерти он назвал Цветаеву и Мандельштама как самых близких, самых личных, самых пережитых им поэтов.
Книга «Тень деревьев» отнюдь не является полным собранием стихотворных переводов Ильи Эренбурга. Некоторые переводы сознательно опущены из-за своей малозначительности или как нехарактерные для пристрастий поэта. Некоторые, в том числе значительная часть переводов нз Неруды, напротив, не включены потому, что они перепечатывались десятки раз и хорошо известны любителям поэзии. Однако эта книга — несомненно, первая попытка собрать воедино поэтические переводы Ильи Эренбурга, разбросанные по различным книжным и журнальным изданиям, давно ставшим библиографической редкостью.
Жила раз дама, и она
Была добра, мила, ясна,
Всех дам приветливей, умней,
И вот что приключилось с ней:
Был муж ее весьма богат,
Всегда гостям заезжим рад,
По всей стране радушным слыл.
В те дни турнир объявлен был.
Три рыцаря, бредя туда,
Минуя замки, города,
В их замок по пути зашли,
Прием достойный обрели.
Отвагой славился один,
Земель немалых господин.
Другой был также храбр и смел
И много золота имел.
Был третий беден и уныл,
Но храбро в страшный бой спешил.
Все трое между дам и дев,
Ту даму нежную узрев,
Что всех милей и всех ясней,
Любовью воспылали к ней.
И молвил первый: «Свет земной,
Минуту ты побудь со мной!
Я не прошу твоей любви,
Но ты слугой меня зови.
На все готов я для тебя,
О несравненная моя!»
Другие тоже полны чар,
Ей поверяли сердца жар.
Вздыхала дама смущена,
А утром видела она,
Тая великую печаль,
Как всадники умчались вдаль.
Она тогда пажа нашла,
Рубаху белую дала
И молвила: «От всех тайком
Ты на турнир спеши верхом,
Пред рыцарем мой дар сложи, —
И назвала пред кем, — Скажи,
Коль он любовью поражен,
Рубаху пусть наденет он
И выйдет в бой не скрыт ничем,
Оставив панцирь свой и шлем
И сохранив лишь меч и щит,
Мечу противника открыт.
Коль он рубаху ту возьмет
И в ней на черный бой пойдет,
Ко мне назад спеши скорей.
Коль не возьмет, ступай ты с ней
К другому, — назвала к кому. —
И то же повтори ему.
Коль не возьмет, тогда ступай
И третьему ее отдай».
Послушный паж рубаху взял,
Коня усталого он гнал
И первому привез ее.
Он рыцарю промолвил все,
Что приказала госпожа.
И рыцарь выслушал пажа,
Сказал, что выполнит приказ,
Рубаху он надел тотчас.
Чтоб доказать любовь свою,
Готов он пасть в лихом бою.
Но после рыцарь вышел прочь.
Когда же наступила ночь,
Он вспомнил о пажа речах,
И овладел им смертный страх.
К пажу придя, тоской сражен,
Ему вернул рубаху он.
Другому рыцарю отнесть
Спешил гонец тот дар и весть.
Но рыцарь мрачен и суров
Не понимал заветных слов
И, дару страшному не рад,
Рубаху возвратил назад.
Спешил гонец, коня он гнал,
Пред третьим рыцарем предстал.
И рыцарь, выслушав гонца,
Возрадовался без конца.
Сказал: «Рубаха столь нежна,
И крепче панциря она.
О паж, нет злата у меня,
Но ты возьми себе коня,
И даме молви — рыцарь взял
Твой нежный дар и ликовал.
Он завтра выйдет в темный бой,
Хранимый лишь твоей мольбой!»
Уж ночь прошла, герольд трубил,
И рыцарь у окна грустил.
Всю ночь рубаху он держал,
Ее стыдливо целовал.
Во имя дамы, думал он,
Победы крик иль смертный стон.
Но вдруг трубы призывный звук
Родил в нем тягостный испуг.
Он вспомнил меткий взмах меча.
Зачем надел он сгоряча
Рубаху? Он теперь открыт,
Бока и грудь не скроет щит.
Из-за игры погибнет он,
Осмеян всеми, побежден,
О, через час погибнет плоть,
И не простит души господь.
Он, замирая и дрожа,
То вспоминал слова пажа
И очи той, что столь светла,
И что на смерть его вела,
То снова видел блеск клинка,
И овладела им тоска.
Рубаху снял и на позор
Он руку к панцирю простер,
Но увидал в последний миг
Он несравненной дамы лик,
Вскочил на верного коня,
Свой меч подняв и щит клоня.
Ни страх, ни раны — ничего
Не удержало бы его.
Уж рыцарь не свернет назад.
Его противники разят.
Зазубрен меч, повергнут щит,
И кровь из тяжких ран бежит.
Но он не уступает, вновь,
Вздымая меч, стирая кровь,
Не видя рощ, топча луга,
Сражает за врагом врага.
Но ран все больше, меньше сил,
Герольд трубит — он победил.
Рубаха — вся в крови она,
Изорвана, обагрена.
Он что-то шепчет слаб, но рьян.
И багровеют тридцать ран.
Ему награда и почет,
И всяк его к себе ведет.
Он просит лишь пажа беречь
Рубаху рваную да меч.
С турнира паж домой скакал,
Он даме обо всем сказал.
В томленьи, плача и дрожа,
Ему внимала госпожа
О ранах рыцаря того,
Кто, не жалея ничего,
Ей отдал все, что мог отдать.
И начала она вздыхать:
«Коль он умрет — виновна я.
Его любовь — любовь моя.
Но был он выше и смелей
Столь щедрых на слова друзей».
И паж сказал, потупив взгляд:
«Те отдали твой дар назад».
Как только вечер приходил,
Паж даму к рыцарю водил.
И в темной горнице она,
Тоски и сладости полна,
Могла, как ангел или мать,
Больного тело врачевать.
В двух рыцарей вошла тогда
К больному рыцарю вражда
За то, что он был горд и смел
И смелостью их одолел,
За то, что породила кровь
Небоподобную любовь.
Когда закончился турнир,
Муж дамы заготовил пир.
Гостям столь необычным рад,
Решил он восемь дней подряд
Вином густым гостей поить,
Им яства редкие дарить.
Убрал он зал, сказал жене
И девам знатным, чтоб оне
Служили бы гостям во всем
И потчевали их вином.
Так господин жене сказал.
Но рыцарь раненый узнал,
Что дама будет угощать
Гостей и вина им давать.
Пажа позвал, сказал: «Ступай,
Рубаху даме ты отдай,
Скажи, что к празднику она
Надеть рубаху ту должна.
Рубаху рваную, в крови —
Во имя муки и любви!»
Паж молча выслушал приказ
И к даме поспешил тотчас.
И дама приняла любя
Позор и муку на себя.
Ответила: «В крови она,
Но, милой кровью скреплена,
Она всех жемчугов милей», —
Ее надела и ушла.
Шумели гости уж давно,
Им девушки несли вино,
И с каждой чашей светлый зал
Все больший говор наполнял.
Тогда спокойна, но бледна
Вошла печальная жена.
В глазах ее была любовь
И на рубахе рваной кровь.
А муж, ее в дверях узрев
И сдерживая страшный гнев,
Перед гостями тих и нем,
Ее не попрекнул ничем.
Теперь вы слышали рассказ.
Жак де Безье — он просит вас,
Дам, рыцарей и всех пажей,
Отцов и также сыновей,
Судить, чей был страшней удел,
Кто за любовь сильней терпел —
Тот рыцарь, что пошел на бой,
Хранимый лишь одной мольбой,
И страх отверг, и пролил кровь,
Чтоб доказать свою любовь,
Иль дама, что, его любя,
Надеть посмела на себя,
Как знак печали и любви,
Рубаху рваную в крови,
Не убоявшись ничего —
Ни гнева мужа своего,
Ни смеха иль дурных речей
Завистливых и злых гостей.