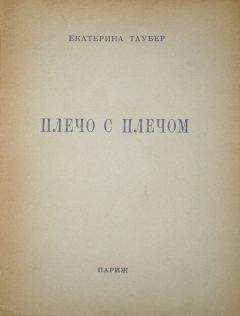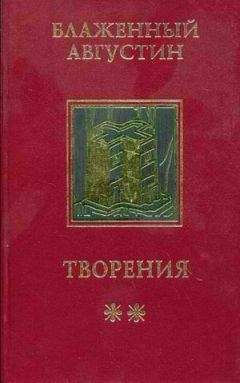«Так же падал снег в России…»
Так же падал снег в России,
В детстве, в сумерки, давно,
Хлопьями — в сады глухие,
В приоткрытое окно.
Плеч измученных прохожих
Он касался так легко,
Белое готовил ложе
Уходящим далеко.
На потертые шинели
В наш земной, привычный ад
Хлопья снежные летели…
Хлопья снежные, закат —
Все осталось там, за нами.
Времени оборван бег…
Над нерусскими словами
Кружится случайный снег.
Играют дети на дворе, —
В колодце каменном, глубоком,
Где только утром на заре
Скользит луч солнца одиноко;
А в окнах — восковой старик,
Ленивой смертью здесь забытый,
Полубезумный клонит лик
В колодец вечности раскрытый.
Следит, тоскующий с утра,
Как тени в глубине мелькают,
Как озорная детвора
Опять в солдатики играет;
Как стынет брошенный утюг;
Как стынет сердце год за годом…
И вот — пророческий испуг
Уже ползет над мрачным сводом,
Над щелью узкой и сырой,
Над гибелью неотвратимой!
Но дети заняты игрой,
Игрой бессмысленной, любимой.
«Громоздятся над стенами стены…»
Громоздятся над стенами стены,
Заводные летят поезда,
Бредят ночью над пепельной Сеной
Заблудившихся зданий стада.
То бессонница, то вдохновенье…
На рассвете — и слабость, и дрожь.
Соблазнительного песнопенья
В красоту превращенная ложь.
И в оковах последнего плена
Сокровенная жажда Суда. —
Скоро ль к мертвому сердцу вселенной
Просочится живая вода?
«Мальчик шел лениво. Упирался…»
Мальчик шел лениво. Упирался.
За руку вела его сестра.
Ножкой топал, плакал и ласкался,
Как большой вздыхал. — «Домой пора!»
Как большой вздыхал… Неумолимо,
Мимо сада городского прочь,
Уводила улицей любимой,
Уводила в сумерки и в ночь.
Так и смерть, прервав восторг и муку, —
Старшая суровая сестра, —
Стиснет нашу стынущую руку,
Поведет… — Домой, домой пора!
«Нам нужно только оттолкнуться…»
Нам нужно только оттолкнуться
От берега. Усилье, взмах, —
И никогда уж не вернуться
В земную тьму, и лед, и прах;
На те безумные дороги,
Что рвутся прочь из городов
К вершинам голубым и строгим,
К сиянью вечному снегов, —
И обрываются над бездной,
И возвращаются назад
С закономерностью железной
В лелеемый веками ад.
Мы часа ждем освобожденья,
Мы задыхаемся в плену,
В бесцельном, бешеном круженьи
Протягиваем руки сну.
Отчаливаем, отплываем
В слепящую глаза лазурь:
Почиет там страна родная,
Недостижимая для бурь…
«Над спящим городом гудок…»
Над спящим городом гудок
Фабричный плачет на рассвете,
Струится утра холодок
И скучно жалуются дети.
От ветра стекла дребезжат,
Как шутовские погремушки,
И снова валишься назад —
Назад в нагретые подушки.
И закрываешься рукой,
И чувствуешь в изнеможеньи,
Какой пронизано тоской
Земного утра пробужденье.
Как трудно голову поднять,
Как трудно справиться с дремотой,
Чтоб быть раздавленной опять
Своею нищенской заботой…
«Давным-давно — во сне, быть может?..»
Давным-давно — во сне, быть может?
В саду играли брат с сестрой.
Ничто тех дней не потревожит
Под прочной времени корой.
Они прошли для нас, для мира
Во всей их прелести земной.
Как нынче холодно и сыро
Не только осенью — весной!
Мы гибнем так неудержимо,
Так мало любим, мало ждем.
Весь путь, как лес непроходимый,
Как смерть таящий водоем.
И лишь во сне — часы возврата
В мир детства легкий и родной,
Где только тень сестры и брата
На клумбе сада вырезной.
«Пройдут томительные годы…»
Пройдут томительные годы,
Покроет вечности туман
И эти жалкие невзгоды,
И тусклых радостей обман:
И ты узнаешь, что не стоит
Так убиваться, так гореть,
Чтоб домик карточный построить
И к славе призрачной лететь;
Что музыка лишь уцелела
Над жизнью, выжженной дотла,
Чтоб у последнего предела
Тебя не поглотила мгла;
Что в нищете и униженьи
Победней с каждым днем звучит
То торжествующее пенье,
Что бедный мир преобразит.
«Сквозь сумерки и ночь тоннелей…»
Сквозь сумерки и ночь тоннелей,
Над пропастями, — по мостам,
Вагоны пьяные летели,
Шатаясь, кланяясь кустам.
Зеленых кипарисов свечи,
Сады, цветущие кругом,
— Как вестники желанной встречи, —
О море пели голубом.
И город спал средневековый,
И у его высоких стен
Склонялись пальмы, словно вдовы,
Незнающие перемен.
В облаке розовом пыли
Стадо спускалось с горы,
Сумерки нас сторожили,
Тлели заката костры.
Тайные зовы долины
Все становились слышней.
Над колокольней старинной
Стая взвилась голубей.
Легкою дрожью дрожали
Тоненькие тополя.
Мудрой, вечерней печали
Глянула в очи земля.
«Как черный лебедь, кипарис…»
Как черный лебедь, кипарис
Над горизонтом выплывает.
Вот барка огибает мыс,
Поет волна береговая.
Века скалистый остров спит
В пучине брошен и затерян,
Здесь ноги мрамор холодит,
Здесь даже голос бурь размерен.
В высоком храме — тишина,
Венки неяркие на плитах.
И только неба пелена
Гробниц касается забытых,
Да в час прибоя иногда
Соленая их лижет пена.
И снова сонные года
Текут над нами… Неизменно…
«На крышах сушится белье…»
На крышах сушится белье,
Летают голуби и ветер,
И море в жалкое жилье
Стучится грозно на рассвете.
И на рассвете я дышу
Соленым воздухом свободы.
Не жалуюсь и не ропщу
И не кляну земные годы.
И если даже дом снесет
Волна высокая прибоя,
Тот чудный мир и воздух тот
Всегда останутся со мною.
Как много надо потерять,
Какие вытерпеть невзгоды,
Чтоб утром солнечным дышать
Соленым воздухом свободы!
«Тогда чернели кипарисы…»
Тогда чернели кипарисы
За монастырскою стеной
И зной июльский, белый зной
Лился из раскаленной выси.
И старый лодочник стоял,
Гребя с улыбкой безучастной, —
Не первой пары лепет страстный
Он за спиною услыхал.
В его морщинистых руках
Весло покорное скользило.
А море пело и грозило
В давно сожженных берегах.
Невыносимый полдня жар
Мешался с вкусом поцелуя,
Ресницы жадные, ликуя,
Скрывали тлеющий пожар.
И лишь в последней глубине
Пел тайный голос о разлуке, —
О смерти, гибели и муке,
О долгожданной тишине.
«Ни плеч, ни рук, ни губ моих не тронешь…»