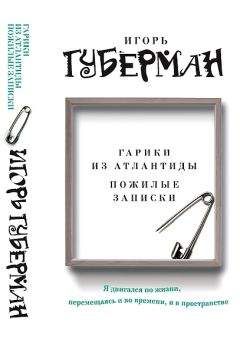2
Евреев от убогих до великих,
люблю не дрессированных, а диких
Был, как обморок, переезд,
но душа отошла в тепле,
и теперь я свой русский крест
по еврейской несу земле.
Здесь мое исконное пространство,
здесь я гармоничен, как нигде,
здесь еврей, оставив чужестранство,
мутит воду в собственной среде.
В отъезды кинувшись поспешно,
евреи вдруг соображают,
что обрусели так успешно,
что их евреи раздражают.
За российский утерянный рай
пьют евреи, устроив уют,
и, забыв про набитый трамвай,
о графинях и тройках поют.
Еврейский дух слезой просолен,
душа хронически болит;
еврей, который всем доволен –
покойник или инвалид.
Умельцы выходов и входов,
настырны, въедливы и прытки,
евреи есть у всех народов,
а у еврейского – в избытке.
Евреи, которые планов полны,
становятся много богаче,
умело торгуя то светом луны,
то запахом легкой удачи.
Каждый день я толкусь у дверей.
за которыми есть кабинет,
где сидит симпатичный еврей
и дает бесполезный совет.
Чтоб несогласие сразить
и несогласные закисли,
еврей умеет возразить
еще не высказанной мысли.
Да, Запад есть Запад, Восток есть Восток,
у каждого собственный запах,
и носом к Востоку еврей свой росток
стыдливо увозит на Запад.
Смотрю на наше поколение
и с восхищеньем узнаю
еврея вечное стремление
просрать историю свою.
Не внемлет колосу погоды
упрямый ген в упорном семени:
терпя обиды и невзгоды,
еврей блаженствует в рассеяньи.
В мире много идей и затей,
но вовек не случится в истории,
чтоб мужчины рожали детей,
а евреи друг с другом не спорили.
В мире лишь еврею одному
часто удается так пожить,
чтоб не есть свинину самому
и свинью другому подложить.
Мир наполнили толпы людей,
перенесших дыханье чумы,
инвалиды высоких идей,
зараженные духом тюрьмы.
Живу я легко и беспечно,
хотя уже склонен к мыслишкам,
что все мы евреи, конечно,
но некоторые – слишком.
Много сочной заграничной русской прессы
я читаю, наслаждаясь и дурея;
можно выставить еврея из Одессы,
но не вытравишь Одессу из еврея.
Земля моих великих праотцов
полна умов нешибкого пошиба,
и я среди галдящих мудрецов
молчу, как фаршированная рыба.
Слились две несовместных натуры
под покровом израильской кровли –
инвалиды российской культуры
с партизанами русской торговли.
За мудрость, растворенную в народе,
за пластику житейских поворотов
евреи платят матери-природе
обилием кромешных идиотов.
Душу наблюдениями грея
начал разбираться в нашем вкусе я:
жанровая родина еврея –
всюду, где торговля и дискуссия.
Я счастлив, что жив и неистов
тяжелый моральный урод –
мой пакостный, шустрый, корыстный
настырно живучий народ.
Еврей не каждый виноват,
что он еврей на белом свете,
но у него возможен брат,
а за него еврей в ответе.
Евреев тянет все подвигать
и улучшению подвергнуть,
и надо вовремя их выгнать,
чтоб неприятностей избегнуть.
Не терпит еврейская страстность
елейного меда растления:
еврею вредна безопасность,
покой и любовь населения.
Как не скрывайся в чуждой вере,
у всех народов и времен
еврей заочно к высшей мере
всегда бывал приговорен.
Особенный знак на себе мы несем,
всевластной руки своеволие,
поскольку евреи виновны во всем,
а в чем не виновны – тем более.
Под пятой у любой системы –
очень важно заметить это –
возводили мы сами стены
наших тесных и гиблых гетто.
Нельзя, когда в душе разброд,
чтоб дух темнел и чах;
не должен быть уныл народ,
который жгли в печах.
Евреи знали унижение
под игом тьмы поработителей,
но потерпевши поражение,
переживали победителей.
Пустившись по белому свету,
готовый к любой неизвестности,
еврей заселяет планету,
меняясь по образу местности.
Спеша кто куда из-под бешенной власти,
евреи разъехались круто,
чем очень и очень довольны. А счастье –
оно не пришло почему-то.
Варясь в густой еврейской каше,
смотрю вокруг, угрюм и тих:
кишмя кишат сплошные наши,
но мало подлинно своих.
Мне одна догадка душу точит,
вижу ее правильность везде:
каждый, кто живет не там, где хочет –
вреден окружающей среде.
Навеки предан я загадочной стране,
где тени древние теснятся к изголовью,
а чувства – разные полощутся во мне:
люблю евреев я, но странною любовью.
Что изнутри заметно нам,
отлично видно и снаружи:
еврей абстрактный – стыд и срам,
еврей конкретный – много хуже.
Еврей весь мир готов обнять,
того же требуя обратно:
умом еврея не понять,
а чувством это неприятно.
Во всем разломы, щели, трещины
проблем, событий и идей,
терпя то ругань, то затрещины,
азартно лезет иудей.
Растут растенья плещут воды,
на ветках мечутся мартышки,
еврей в объятиях свободы
хрипит и просит передышки.
Антисемит похож на дам,
которых кормит нежный труд:
от нелюбви своей к жидам
они дороже с нас берут.
Всегда еврей гоним или опален
и с гибелью тугим повит узлом,
поэтому бесспорно уникален
наш опыт обращения со злом.
В жизненных делах я непрактичен,
мне азарт и риск не по плечу,
даже как еврей я нетипичен:
если что не знаю, то молчу.
Заоблачные манят эмпиреи
еврейские мечтательные взгляды,
и больно ушибаются евреи
о каменной реальности преграды.
Тем людям, что с рожденья здесь растут, –
им чужды наши качества и свойства;
похоже, не рассеется и тут
витающий над нами дух изгойства.
Еврейского характера загадочность
не гений совместила со злодейством,
а жертвенно хрустальную порядочность
с таким же неуемным прохиндейством.
Мы Богу молимся, наверно,
затем так яростно и хрипло,
что жизни пакостная скверна
на нас особенно налипла.
В еврейском гомоне и гаме
отрадно жить на склоне лет,
и даже нет проблем с деньгами,
поскольку просто денег нет.
Еврейского разума имя и суть –
бродяга, беглец и изгой:
еврей, выбираясь на правильный путь,
немедленно ищет другой.
Скитались не зря мы со скрипкой в руках:
на землях, евреями пройденных,
поют и бормочут на всех языках
еврейские песни о родинах.
Я антисемит, признаться честно,
ибо я лишен самодовольства
и в евреях вижу повсеместно
собственные низменные свойства.
Чуть выросли – счастья в пространстве кипучем
искать устремляются тут же
все рыбы – где глубже, все люди – где лучше.
евреи – где лучше и глубже.
Катаясь на российской карусели,
наевшись русской мудрости плодов,
евреи столь изрядно обрусели,
что всюду видят происки жидов.
Еврей живет, как будто рос,
не зная злобы и неволи:
сперва сует повсюду нос
и лишь потом кричит от боли.
Велик и мелок мой народец,
един и в грязи и в элите,
я кровь от крови инородец
в его нестойком монолите.
Евреям доверяют не вполне
и в космос не пускают, слава Богу:
евреи, оказавшись на Луне,
устроят и базар и синагогу.
Шепну я даже в миг, когда на грудь
уложат мне кладбищенские плиты:
жениться на еврейке – лучший путь
к удаче, за рубеж, в антисемиты.
На развалинах древнего Рима
я сижу и курю не спеша,
над руинами веет незримо
отлетевшая чья-то душа.
Под небом, безмятежно голубым,
спит серый Колизей порой вечерней;
мой предок на арене этой был
зарезан на потеху римской черни.
Римские руины – дух и мрамор,
тихо дремлет вечность в монолите;
здесь я, как усердный дикий варвар,
выцарапал имя на иврите.
В убогом притворе, где тесно плечу
и дряхлые дремлют скамейки,
я деве Марии поставил свечу –
несчастнейшей в мире еврейке.
Из Рима видней (как теперь отовсюду,
хоть жизнь моя там не легка)
тот город, который я если забуду –
отсохнет моя рука.
Я скроюсь в песках Иудейской пустыни
на кладбище плоском, просторном и нищем
и чувствовать стану костями пустыми,
как ветер истории поверху свищет.
Вон тот когда-то пел, как соловей,
а этот был невинная овечка,
а я и в прошлой жизни был еврей –
отпетый наглый нищий из местечка.
Знаешь, поразительно близка мне
почва эта с каменными стенами:
мы, должно быть, помним эти камни
нашими таинственными генами.
Я счастлив, что в посмертной вечной мгле,
посмертном бытии непознаваемом,
в навеки полюбившейся земле
я стану бесполезным ископаемым.