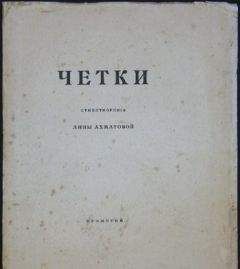спинкой,
в мягком кресле с чехлом я дремлю в самолете,
смущаемый взрослыми снами об устойчивой, прочной земле
с ежевикой, дождем и щеглом. С каждым годом
сильнее влечет
все устойчиво прочное. Так зачем у костра-дымокура,
у лесного огня, не забытое мною,
но как бы забытое, прошлое голосами другими
опять окликает меня? Загорелые парни в ковбойках
и в кепках, упрямо заломленных, да с глазами,
в которых лесные костры горят, спят на влажной траве и на жестких матрацах соломенных, как убитые спят
и во сне над землею парят. Как летают они!
Залетают за облако,
тают. Это очень легко
вышина им ничуть не страшна. Ты был прав, старшина:
молодые растут,
оттого и летают. Лишь теперь мне понятна
вся горечь тех слов,
старшина! Что ж я в споры вступаю?
Я парням табаку отсыпаю. Торопливо ломаю сушняк,
у лесного огня хлопочу. А потом я бросаюсь в траву
и в траве молодой засыпаю. Взмах рукой, и другой!
Поднимаюсь опять
и лечу. Юрий Левитанский. Стороны света. Москва: Советский писатель, 1959.
* * * Грач над березовой чащей.
Света и сумрака заговор. Вечно о чем-то молчащий,
неразговорчивый загород. Лес меня ветками хлещет
в сумраке спутанной зелени. Лес меня бережно лечит
древними мудрыми зельями. Мятой травою врачует
век исцеленному здравствовать, посох дорожный вручает
с посохом по лесу странствовать... Корни замшелого клена
сучьями трогаю голыми, и откликается крона
дальними строгими гулами. Резко сгущаются тени,
перемещаются линии. Тихо шевелятся в тине
странные желтые лилии. Гром осыпается близко,
будит округу уснувшую. Щурюсь от быстрого блеска.
Слушаю.
Слушаю.
Слушаю. Юрий Левитанский. Стороны света. Москва: Советский писатель, 1959.
* * * Вы помните песню про славное море? О парус, летящий под гул баргузина! ...Осенние звезды стояли над логом, осенним туманом клубилась низина.
Потом начинало светать понемногу. Пронзительно пахли цветы полевые... Я с песнею тою пускался в дорогу, Байкал для себя открывая впервые.
Вернее, он сам открывал себя. Медленно машина взбиралась на грань перевала. За петлями тракта, за листьями медными тянуло прохладой и синь проступала.
И вдруг он открылся. Открылась граница меж небом и морем. Зарей освещенный, казалось, он вышел, желая сравниться с той самою песней, ему посвященной.
И враз пробежали мурашки по коже, сжимало дыханье все туже и туже. Он знал себе цену. Он спрашивал: - Что же, похоже на песню? А может, похуже?
Наполнен до края дыханьем соленым горячей смолы, чешуи омулиной, он был голубым, синеватым, зеленым, горел ежевикой и дикой малиной.
Вскипала на гальке волна ветровая, крикливые чайки к воде припадали, и как ни старался я, рот открывая, но в море, но в море слова пропадали.
И думалось мне под прямым его взглядом, что, как ни была бы ты, песня, красива, ты меркнешь, когда открывается рядом живая, земная, всесильная сила. Юрий Левитанский. Стороны света. Москва: Советский писатель, 1959.
* * * Не брести мне сушею,
а по северным рекам плыть! Я люблю присущую
этим с 1000 еверным рекам прыть. Мне на палубе слышно,
как плещет внизу Витим, как ревет Витим,
в двух шагах почти невидим. Я щекою небритой
ощущаю мешок вещевой, мой дорожный мешок,
перемытый водой дождевой. От него пахнет пастой зубною
и ягодным мылом, позабытой страною
детством лагерным милым. И от этого снится мне детство
с певучими горнами и с вершинами горными,
неприступными, гордыми. К тем вершинам горным,
чтоб увидеть их наяву, от детства самого
по высокой воде плыву. У безлюдного берега
опускаю скрипучие трапы на песчаные отмели,
на лесные пахучие трааы. И огни золотого прииска
в темноте за бортом начинаются, словно присказка
(сказка будет потом!). Ну, а в присказке ходит Золушка
в сапогах кирзовых. Полыхают вовсю два солнышка
в глазах бирюзовых. Засыпает она, усталая,
на подушке колкой, и стоят босоножки старые
под железной койкой. А за окнами зорька-зорюшка
сладко сны навевает. Золотые туфельки Золушка
не спеша надевает. Золотыми, росой обрызганными,
по мосткам застучала... Только это уже не присказка
это сказки начало. Это сказка моя правдивая,
где ни лжи, ни обмана, где и вправду вершины горные
поднимаются из тумана. Ах, вершины гордые!
Чтоб увидеть вас наяву, я от детства самого
по высокой воде плыву. Юрий Левитанский. Стороны света. Москва: Советский писатель, 1959.
ПЕЙЗАЖ Горящей осени упорство! Сжигая рощи за собой, она ведет единоборство, хотя проигрывает бой.
Идет бесшумный поединок, но в нем схлестнулись не шутя тугие нити паутинок с тугими каплями дождя.
И ветер, в этой потасовке с утра осинник всполошив, швыряет листья, как листовки,сдавайся, мол, покуда жив.
И сдачи первая примета белесый иней на лугу. Ах, птицы, ваша песня спета, и я помочь вам не могу.. .
Таков пейзаж. И если даже его озвучить вы могли б чего-то главного в пейзаже недостает, и он погиб.
И все не то, все не годится и эта синь, и эта даль, и даже птица, ибо птица второстепенная деталь.
Но, как бы радуясь заминке, пока я с вами говорю, проходит женщина в косынке по золотому сентябрю.
Она высматривает грузди, она выслушивает тишь, и отраженья этой грусти в ее глазах не разглядишь.
Она в бору, как в заселенном во всю длину и глубину прозрачном озере зеленом, где тропка стелется по дну,
где, издалёка залетая, лучи скользят наискосок и, словно рыбка золотая, летит березовый листок...
Опять по листьям застучало, но так же медленна, тиха, она идет,
и здесь начало картины, музыки, стиха.
А предыдущая страница, где разноцветье по лесам,затем, чтоб было с чем сравниться ее губам, ее глазам. Юрий Левитанский. Стороны света. Москва: Советский писатель, 1959.
БЕРЕЗА За стеною голоса
и звон посуды. Доводящие до умопомраченья разговоры за стеною,
пересуды и дебаты философского значенья.
Видно, за полночь.
Разбужен поневоле, я выскакиваю из-под одеяла. Что мне снилось?
Мне приснилось чисто поле, где-то во поле березонька стояла.
Я кричу за эту стену:
- Погодите! Ветер во поле березу пригибает. Одевайтесь,- говорю,
и выходите, где-то во поле береза погибает.
Пять минут,- кричу,
достаточно на сборы. Станем разом против ветра и мороза...Пересуды за стеною,
разговоры. Замерзает где-то во поле береза. Юрий Левитанский. Стороны света. Москва: Советский писатель, 1959.
ПАМЯТИ РОВЕСНИКА
Мы не от старости умрем
От старых ран умрем...
С. Гудзенко
Опоздало письмо.
Опоздало письмо.
Опоздало. Ты его не получишь,
не вскроешь
и мне не напишешь. Одеяло откинул.
К стене повернулся устало. И упала рука.
И не видишь.
Не слышишь.
Не дышишь. Вот и кончено все.
С той поры ты не стар и не молод, и не будет ни весен,
ни лет,
ни дождя,
ни восхода. Остается навеки
один нескончаемый холод продолженье
далекой зимы
сорок первого года. Смерть летала над нами,
витала, почта ощутима. Были вьюгою белой
оплаканы мы и отпеты. Но война,
только пулей отметив,
тебя пощадила, чтоб убить
через несколько лет
после нашей победы. Вот еще один холмик
под этим большим небосклоном. Обелиски, фанерные звездочки
нет им предела. Эта снежная полночь
стоит на земле
Пантеоном, где без края могилы
погибших за правое дело. Колоннадой тяжелой
застыли вдали водопады. Млечный Путь перекинут над ними,
как вечная арка. И рядами гранитных ступеней
уходят Карпаты под торжественный купол,
где звезды мерцают неярко. Сколько в мире холмов! Как надгробные надписи скупы. Это скорбные вехи
пути моего поколенья. Я иду между ними.
До крови закушены губы. Я на миг
у могилы твоей
становлюсь на колени. И теряю тебя.
Бесполезны слова утешенья. Что мне делать с печалью!
Мое поколенье на марше. Но годам не подвластен
железный закон притяженья к неостывшей земле,
где зарыты ровесники наши. Юрий Левитанский. Стороны света. Москва: Советский писатель, 1959.
* * * Люблю осеннюю Москву
в ее убранстве светлом, когда утрами жгут листву,
опавшую под ветром. Огромный медленный костер
над облетевшим садом похож на стрельчатый костел
с обугленным фасадом. А старый клен совсем поник,
стоит, печально горбясь... Мне кажется, своя у них,
своя у листьев гордость. Ну что с того, ну что с того,
что смяты и побиты! В них есть немое торжество
предчувствия победы. Они полягут в чернозем,
собой его удобрят, но через много лет и зим
потомки их одобрят, Слезу ненужную утрут,
и в юном трепетанье вся неоправданность утрат
получит оправданье... Парит, парит гусиный клин,