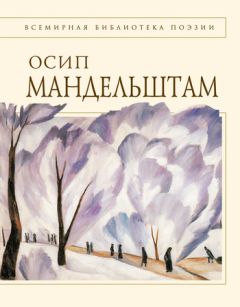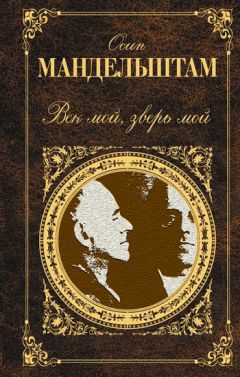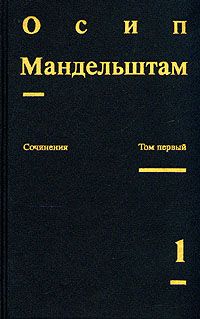В стихотворении 1935 года следует видеть не попытку Мандельштама приспособиться к обстоятельствам, покривить душой, а желание истолковать сегодняшний день, завершающий, увенчивающий старания истории и природы.
Тут и заключалась проблема: сегодняшний день оказался неоднозначным, трудным для истолкования, а поэт был последователен. И до конца остался верен акмеизму. Расстрелян Н.С. Гумилев, совсем оставил литературу В.И. Нарбут, стал иначе писать стихи М.А. Зенкевич, А.А. Ахматова всегда находилась чуть в стороне от тех вопросов, о которых тут упоминается (ее темы – «личность» и «человеческая история» без каких бы то ни было дальних исторических экскурсов, тем более без погружения во времена праисторические).
Итак, один Мандельштам. И это при том, что он принял акмеизм не сразу. О последствиях такого «приятия» можно судить по рецензиям Н.С. Гумилева на мандельштамовские сборники, как, впрочем, судить можно и о том, что связывали их не только литературные интересы, но и дружба.
В отзыве на книгу «Камень» 1913 года сдержанно отмечается, что в книге этой «два резко разграниченных отдела» – это стихи, написанные до 1912 года, и стихи, написанные затем. Упомянутый год и стал переломным, а главной вехой выступает стихотворение «Нет, не луна, а светлый циферблат…»
Отзыв на книгу «Камень» 1916 года абсолютно иной. Конечно, книга от издания к изданию совершенствовалась, по-своему отражая духовный рост ее автора, но тем заметнее дифирамбический тон рецензии: «Прежде всего важно отметить полную самостоятельность стихов Мандельштама; редко встречаешь такую полную свободу от каких-нибудь посторонних влияний. Если даже он наталкивается на тему, уже бывшую у другого поэта (что случается редко), он перерабатывает ее до полной неузнаваемости. Его вдохновителями были только русский язык, сложнейшим оборотам которого ему приходилось учиться, и не всегда успешно, да его собственная видящая, слышащая, осязающая, вечно бессонная мысль».
И тут нелишне вспомнить отзывы В.Ф. Ходасевича на те же самые сборники Мандельштама, хотя бы и потому, что рецензент смотрит на объект своего критического анализа со стороны и при этом старается быть предельно объективным.
В первом случае В.Ф. Ходасевич так же сдержан, однако сдержанность его не влияет на точность оценки: «Подобно Адаму (недаром сам акмеизм порой именовался «адамизмом»), поэт ставит главною своей целью – узнать и назвать вещи. Талант зоркого метафориста позволяет ему тешиться этой игрой и делать ее занимательною для зрителя. Поэзия Мандельштама – танец вещей, являющихся в самых причудливых сочетаниях. Присоединяя к игре смысловых ассоциаций игру звуковых, поэт, обладающий редким в наши дни знанием и чутьем языка, часто выводит свои стихи за пределы обычного понимания: стихи Мандельштама начинают волновать какими-то темными тайнами, заключенными, вероятно, в корневой природе им сочетаемых слов – и нелегко поддающимися расшифровке. Думаем, что самому Мандельштаму не удалось бы объяснить многое из им написанного». Главное не то, что рецензент хвалит метафорический дар Мандельштама, как бы косвенно укоряя Н.С. Гумилева, отмечавшего, что нет отдельных метафор и образов, потому что они лишь способ выявить человека (подчеркивание собственно метафоризма – и есть укор). Нет, В.Ф. Ходасевич формулирует принцип, которым пользуется Мандельштам, создавая стихи, и формулирует на удивление точно.
Во втором отзыве критик выделяет другую сторону поэтики Мандельштама, подбирая уже не столь точную формулировку и все-таки указывая на не менее важное свойство мандельштамовских стихов – комический эффект, рождающийся при их чтении (пусть не всех и не всегда): «О. Мандельштаму, видимо, нравится холодная и размеренная чеканка строк. Движение его стиха замедленно и спокойно. Однако порой из-под нарочитой сдержанности прорывается в его поэзии пафос, которому хочется верить хотя бы за то, что поэт старался (или сумел сделать вид, что старался) его скрыть. К сожалению, наиболее серьезные из его пьес, как «Silentium», «Я так же беден», «Образ твой мучительный и зыбкий», помечены более ранними годами; в позднейших стихотворениях г. Мандельштама маска петроградского сноба слишком скрывает лицо поэта; его отлично сделанные стихи становятся досадно комическими, когда за их «прекрасными» словами кроется глубоко ничтожное содержание:
Кто смиривший грубый пыл,
Облеченный в снег альпийский,
С резвой девушкой вступил
В поединок олимпийский?
Ну, право, стоило ли тревожить вершины для того только, чтобы описать дачников, играющих в теннис? Думается, г. Мандельштам имеет возможность оставить подобные упражнения ради поэзии более значительной».
В действительности, тут куда более странно соединение разнородных понятий, обернувшееся столкновением. Олимпийский поединок, альпийский снег, резвая девушка. Не чересчур ли много, ведь излишество нелепо, оно рождает комический эффект?
Недаром В.Б. Шкловский отметил, говоря о Мандельштаме: «И кажется все это почти шуткой, так нагружено все собственными именами и славянизмами. Так, как будто писал Козьма Прутков. Эти стихи написаны на границе смешного».
Здесь, опять-таки, странность. Существуют две противоположные точки зрения на мандельштамовскую поэзию, о которых подробно писал С.С. Аверинцев (правда, вторую точку зрения предельно утрируя): либо искушенный знаток и мыслитель манипулирует смыслами и понятиями всей мировой культуры, так сказать, культурными кодами, либо наслаждается сюрреалистической образностью, над смыслом которой и не задумывается. С.В. Полякова, которой приписывается эта концепция, утверждала нечто совершенно иное. Она говорила, что при самых причудливых неточностях и ошибках (наиболее показательный пример – вышивание Пенелопы в стихотворении «Золотистого меда струя из бутылки текла…», тогда как подобное занятие вообще не было известно в Древней Греции) Мандельштам создает стихи, предельно убедительные для читателя, создает, возбуждая систему ассоциаций с помощью звукового облика используемых названий, имен и даже глаголов.
Кажется, подобная концепция вполне верна. Ее, по-своему, выстраивает и Л.Я. Гинзбург. Вот фрагмент из дневника: «Жирмунский, который был близок с Мандельштамом, рассказывает, что Мандельштам умел как-то пощупать и понюхать старую книгу, повертеть ее в руках, чтобы усвоить принцип эпохи. Жирмунский допускает, что Мандельштам не читал «Федру»; по крайней мере экземпляр, который Виктор Максимович лично выдал ему из библиотеки романо-германского семинария, у Мандельштама пропал, и скоро его нашли на Александровском рынке.
Насчет «Федры» свои сомнения В.М. подтверждает тем, что в стихотворении, посвященном Ахматовой, имелся первоначальный вариант:
Так отравительница Федра
Стояла некогда Рашель…
Мне кажется, это можно истолковать и иначе. Мандельштам сознательно изменял реалии. В стихотворении «Когда пронзительнее свиста…» у него старик Домби повесился, а Оливер Твист служит в конторе – чего нет у Диккенса. А в стихотворении «Золотистого меда струя…» Пенелопа вышивает вместо того, чтобы ткать.
Культурой, культурными ассоциациями Мандельштам насыщает, утяжеляет семантику стиха; фактические отклонения не доходят до сознания читателя. Виктор Максимович, например, обратил впервые мое внимание на странность стихов:
И ветром развеваемые шарфы
Дружинников мелькают при луне…
Какие могут быть у оссиановских дружинников шарфы?» И Федра-отравительница, и библиотечная книга, оказавшаяся на рынке, – все относится к области анекдотов. Но анекдотов, связанных с Мандельштамом, великое множество. К ним относятся и анекдоты о Мандельштаме, сдающем экзамены в университете. Есть устный рассказ Ю.Н. Тынянова, разросшийся до целой интермедии и записанный по памяти мемуаристом, чрезвычайно смешной, он все же «из вторых уст». Но он подтверждается и другими воспоминателями, другие детали, совсем не забавно, а суть та же. Мандельштам сдает экзамен по античной литературе и не может назвать ни одной комедии Плавта, лишь повторяет общие слова, дескать, комедии эти «пережившие века» и тому подобное.
Тем не менее очевидцы вспоминали анекдоты и куда более выразительные. Например, Н.А. Павлович, которая, как Мандельштам, жила в петроградском Доме искусств, повстречала его на лестнице. Мандельштам бормочет (так с голоса сочинял он стихи): «…Зиянье Аонид, зиянье Аонид…» – И вдруг спрашивает: «Надежда Александровна, а что такое «Аониды»?»
Этого примера, должно быть, достаточно, чтобы подтвердить мысль С.В. Поляковой. Но и С.С. Аверинцев по-своему прав, говоря о принципах мандельштамовской поэтики. Единственное уточнение – это все же не принципы, а излюбленные приемы (разница немалая). С.С. Аверинцев называет это «техникой наложения», так, поэт может объединить, например, католическое и греко-православное.