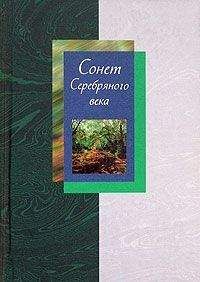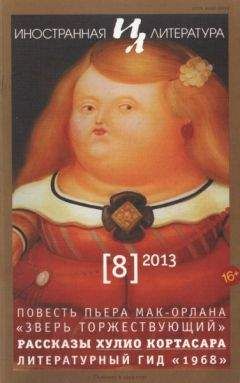Ознакомительная версия.
1927
Отдохновенье мозгу и душе
Для дедушек и правнуков поныне:
Оркестровать улыбку Бомарше
Мог только он, эоловый Россини.
Глаза его мелодий ясно-сини,
А их язык понятен в шалаше.
Пусть первенство мотивовых клише
И графу Альмавиве, и Розине.
Миг музыки переживет века,
Когда его природа глубока, —
Эпиталамы или панихиды.
Россини – это вкрадчивый апрель,
Идиллия селян «Вильгельма Телль»,
Кокетливая трель «Семирамиды».
1917
Он тем хорош, что он совсем не то,
Что думает о нем толпа пустая,
Стихов принципиально не читая,
Раз нет в них ананасов и авто,
Фокстрот, кинематограф, и лото —
Вот, вот куда людская мчится стая!
А между тем душа его простая,
Как день весны. Но это знает кто?
Благословляя мир, проклятье войнам
Он шлет в стихе, признания достойном,
Слегка скорбя, подчас слегка шутя
Над вечно первенствующей планетой...
Он – в каждой песне, им от сердца спетой,—
Иронизирующее дитя.
1926
Неумолимо солнце, как дракон.
Животворящие лучи смертельны.
Что ж, что поля ржаны и коростельны? —
Снег выпадет. Вот солнечный закон.
Поэт постиг его, и знает он,
Что наши дни до ужаса предельны,
Что нежностью мучительною хмельны
Земная радость краткая и стон.
Как дряхлый триолет им омоложен!
Как мягко вынут из глубоких ножен
Узором яда затканный клинок!
И не трагично ль утомленным векам
Смежиться перед хамствующим веком,
Что мелким бесом вертится у ног?..
1926
В своих привычках барин, рыболов,
Друг, семьянин, хозяин хлебосольный,
Он любит жить в Москве первопрестольной,
Вникая в речь ее колоколов.
Без голосистых чувств, без чутких слов
Своей злодольной родины раздольной,
В самом своем кощунстве богомольной,
Ни душ, ни рыб не мил ему улов...
Измученный в хождениях по мукам,
Предел обретший беженским докукам,
Не очень забираясь в облака,
Смотря на жизнь, как просто на ракиту
Бесхитростно прекрасную, Никиту
Отец не променяет на века...
1925
Хотя бы одному стихотворенью
Жизнь вечную сумевший дать поэт
Хранит в груди божественный секрет:
Обвеевать росистою сиренью.
Что из того, что склонны к засоренью
Своих томов мы вздором юных лет!
Сумей найти строфу, где сора нет,
Где стих зовет ползучих к воспаренью!
Восторга слезы – как весенний дождь!
Освобожденная певица рощ
Молилась за поэта не напрасно:
Молитве птичьей вняли небеса, —
Любим поэт, кто строки набросал, —
Звучащие воистину прекрасно!
1926
С Иронии, презрительной звезды,
К земле слетела семенем сирени
И зацвела, фатой своих курений
Обволокнув умершие пруды.
Людские грезы, мысли и труды —
Шатучие в земном удушье тени —
Вдруг ожили в приливе дуновений
Цветов, заполонивших все сады.
О, в этом запахе инопланетном
Зачахнут в увяданье незаметном
Земная пошлость, глупость и грехи.
Сирень с Иронии, внеся расстройство
В жизнь, обнаружила благое свойство:
Отнять у жизни запах чепухи...
1925
Мечта природы, мыслящий тростник,
Влюбленный раб роскошной малярии,
В душе скрывающий миры немые,
Неясный сердцу ближнего, поник.
Вечерний день осуеверил лик,
В любви последней чувства есть такие,
Блаженно безнадежные. Россия
Постигла их. И Тютчев их постиг.
Не угасив под тлеющей фатою
Огонь поэтов, вся светясь мечтою,
И трепеща любви, и побледнев,
В молчанье зрит страна долготерпенья,
Как омывает сорные селенья
Громокипящим Гебы кубком гнев.
1926
Большой талант дала ему судьба,
В нем совместив поэта и пророка.
Но властью виноградного порока
Царь превращен в безвольного раба.
Подслушала убогая изба
Немало тем, увянувших до срока.
Он обезвремен был по воле рока,
Его направившего в погреба.
Когда весною – в божьи именины,—
Вдыхая запахи озерной тины,
Опустошенный, влекся в Приорат,
Он, суеверно в сумерки влюбленный,
Вином и вдохновеньем распаленный,
Вливал в стихи свой скорбный виноград...
1926
Блондинка с папироскою, в зеленом,
Беспочвенных безбожников божок,
Гремит в стихах про волжский бережок,
О в персиянку Разине влюбленном.
Пред слушателем, мощью изумленным,
То барабана дробный говорок,
То друга дева, свой свершая срок,
Сопернице вручает умиленной.
То вдруг поэт, храня серьезный вид,
Таким задорным вздором удивит,
Что в даме – жар, и страха дрожь —
во франте...
Какие там «свершенья» ни верши,
Мертвы стоячие часы души,
Не числящиеся в ее таланте...
1926
Вот где окно, распахнутое в сад,
Где разговоры соловьиной трелью
С детьми Господь ведет, где труд безделью
Весны зеленому предаться рад.
Весенний луч всеоправданьем злат:
Он в схимническую лиётся келью,
С пастушескою дружит он свирелью,
В паркетах отражается палат.
Не осудив, приять – завидный жребий!
Блажен земной, мечтающий о небе,
О души очищающем огне,
О – среди зверства жизни человечьей —
Чарующей, чудотворящей речи,
Как в вешний сад распахнутом окне!..
1926
В цилиндре и пальто он так неразговорчив,
Всегда веселый фавн... Я следую за ним
По грязным улицам, и оба мы храним
Молчание... Но вдруг – при свете газа – скорчив
Смешную рожу, он напоминает мне:
«Приятель, будь готов: последний сын Эллады
Тебе откроет мир, где древние услады
Еще не умерли, где в радостном огне
Еще цветет, цветет божественное тело!»
Я тороплю, и вот – у цели мы. Несмело
Толкаю дверь: оркестр, столы, сигарный дым,
И в море черных спин – рубиновая пена —
Пылают женщины видений Ван-Донгэна,
И бурый скачет в зал козленком молодым!
1910
Да будет так. В залитых солнцем странах
Ты победил фригийца, Кифаред.
Но злейшая из всех твоих побед —
Неверная. О Марсиевых ранах
Нельзя забыть. Его кровавый след
Прошел века. Встают, встают в туманах
Его сыны. Ты слышишь в их пэанах
Фригийский звон, неумерщвленный бред?
Еще далек полет холодных ламий,
И высь – твоя. Но меркнет, меркнет пламя,
И над землей, закованною в лед,
В твой смертный час осуществляя чей-то
Ночной закон, зловеще запоет
Отверженная Марсиева флейта.
1911
Ваш трубадур – крикун, ваш верный шут – повеса
(Ах, пестрота измен – что пестрота колен!).
Ваш тигр, сломавши клеть, бежал в глубины леса,
Единственный ваш раб – арап – клянет свой плен.
Разуверения? – нашептыванья беса!
Тревожные крыла – и в лилиях явлен
Едва заметный крест... О узкая принцесса,
Разгневанная мной, вы золотой Малэн:
Желтели небеса и умолкали травы,
Утрело, может быть, впервые для меня,
Когда я увидал – о свежие оправы
Очнувшихся дерев! о златовестье дня! —
Ваш флорентийский плащ, летящий к небосклону,
Аграф трехлилейный и тонкую корону.
Ворзель, июнь 1912
Так строги вы к моей веселой славе,
Единственная! Разве Велиар,
Отвергший всех на босховском конклаве,
Фуметой всуе увенчал мой дар?
Иль это страх, что новый Клавдий-Флавий,
Любитель Велиаровых тиар,
Иезавелью обречется лаве —
Испытаннейшей из загробных кар?
Люблю в предверьи первого Сезама
Играть в слова, их вероломный друг,
Всегда готовый к вам вернуться, мама,
Шагнуть назад, в недавний детский круг,
И вновь изведать чистого бальзама —
Целебной ласки ваших тихих рук.
1913
Николаю Бурлюку
Сонет-акростих
Не тонким золотом Мирины
Изнежен дальний посох твой:
Кизил Геракла, волчий вой —
О строй лесной! о путь старинный!
Легка заря, и в лог звериный,
Апостольски шурша травой,
Юней, живей воды живой
Болотные восходят крины.
Усыновись, пришлец! Давно ль
Ручьиные тебе лилеи
Лукавый моховой король,
Ютясь, поникнет в гоноболь,
Когда цветущий жезл Гилей
Узнает северную воль...
1913
Ознакомительная версия.