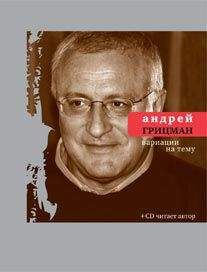Байкал
* * *
Тальцы – стрельчатые конусы
на берегу ледяной Вселенной.
Атлантида Сибири.
* * *
Стрела Ангары.
Хлопок рассветного расстрела
в леднике века.
* * *
Бурятская охрана —
низкая косая сажень
в подземелье дискотеки.
* * *
Остров ампира в весенней грязи.
Собака лает, ветер носит.
* * *
Улан-Удэ, ундина в долине Ангары.
Донный дым гибели.
Энтропия любви, время игры.
* * *
Свечи мерцающих судеб
на обесснеженной равнине.
Скоро Тулун.
* * *
Тулун. Ледяные ямы сортира.
Медведь на цепи.
Газовый туман крытой тюрьмы.
* * *
Братская ГЭС.
Сатуновский глядит в пучину.
Скоро смена.
* * *
Азиатский оазис.
Тёмное дыхание
уставшей степи.
Деревянные идолы безымянны.
* * *
* * *
Только багульник —
как треснувшее стекло времени.
* * *
Тёплые чаши душ,
плывущие в глуши похмелья.
Утренний глоток дыма падает в небо.
* * *
Побег на восток —
единственный путь на запад,
на запах, на слух, на вдох.
Медные звёзды в безучастном небе.
* * *
Города – осколки света во мхах.
* * *
Кромка стынущих рек
поздней весны востока.
* * *
Русский восток —
красный восход без исхода.
* * *
Стаи омуля, плывущие
в жертвенном дыме
на краю живого мира.
* * *
Могилы над Байкалом —
перископы святых.
* * *
Пейзаж Григорьева:
пятна снега,
пятна света
в проёме стены,
в куда-то, где-то.
Стоп-кадр души места.
* * *
Потный аквариум, грохот.
Сибирские наяды
извиваются в дискотеке.
Не смотри, козлёночком станешь.
* * *
В тени «Химпласта»
храм повис в небе.
Просторный запах свежей древесины.
* * *
Бурятские боги молчат в чаще.
Чаша неба с замёрзшей водой.
* * *
Байкал.
Стекло льда.
Звук дна.
Длань зимы над весной.
Снег сна.
* * *
«Сибирская корона», «Кроненбург».
Край тайги.
Тяжкий выдох «Химпласта».
* * *
Звон льдинок – выпускниц университета
им. Адмирала Колчака —
гаснет на закате судеб.
* * *
Здесь пацаны не пляшут. Тел извив,
хвосты из нежных торсов продавщиц.
Езжай домой, себя не погубив
в калейдоскопе их летящих лиц.
Немного странно: ретро из глубин
и тающие страсти до утра.
Сверкание опереточных имён.
Мутация, метеорит, искра.
* * *
Зима. «Тойота», снег почуя.
На верёвочке пляшет Евтушенко.
* * *
Весна, весна, и вправду весна.
Ну и что? Время разбрасывать кости.
Время таёжных цветов в гостиницах.
* * *
Кафе «Вернисаж», штабной вагон Реввоенсовета,
вросший в вечную мерзлоту ЮКОСА.
* * *
«Сибирская корона».
Летит пена к Ледовитому океану.
* * *
На озёрном зеркале – звёзды,
отражения душ,
полсуток тому уснувших
по ту сторону зеркала.
* * *
«Пломбир», «Байкал», «Памир»
в ларьке у метро «Парк культуры».
Далее везде.
Не жалею, но зову, а лучше
ты включи компьютер, посмотри,
ты меня в коробке чёрной прячешь,
не читая голубой курсив.
Но потом, когда меня не будет,
мы посмотрим, как ты запоёшь,
постоишь на ледяной дороге,
помолчишь… И мокрый снег жуёшь.
Вот вам изумлённая природа,
вот родной щербатый серп луны,
и звучит знакомая эклога —
лишь бы только не было войны.
Молодая, ты гранатомётна:
блузка от «Версаче», алый лак,
почему опять себя ты прячешь,
а всё лучше выглядишь с утра?
Без тебя всё равно всё не так,
всё не так, как вчера,
но и небо полюбишь любое,
и деревья стоят, как в колодце вода.
И пора со двора, и пора умирать,
а мы всё говорим про другое.
Он придёт – тот, другой,
и сойдёт по холодному трапу
в преисподнюю жизни или, наоборот,
чтобы Джиму дать доллар на лапу,
а потом погибать за народ.
Но ему не нужна твоя жертва,
пей страстей голубой лимонад,
я и сам люблю тебя, но больше —
перед сном холодный виноград.
Кто-то пишет, успевая к сроку,
золотые строки про всех нас,
кто-то утром вышел на дорогу,
собираясь на всю жизнь пропасть.
Хорошо в культурном Вавилоне
между двух зеленоватых рек
заглянуть к Роману или к Моне,
где солянкой дышит человек.
Он не глуп – толоконный лоб,
он не скуп, сидит в углу,
заказав на всех икру,
он по-своему не глуп.
А у Мани от «Армани»
золотой в мозгу шуруп.
Поутру, поутру, не сыграть ли в бу —
риме нам с крошкой Ру.
Вот – суд, вот – дзот,
а там – дот, дот. ру,
мы опять не ко двору.
Послушайте, ведь если люди выживают,
значит, это кому-нибудь нужно,
значит, кто-то хочет докурить по последней,
но слушайте:
нам ужин прощальный не нужен,
пропали и друг мой, и враг,
и парень ведёт недотрогу
в черёмухой полный овраг.
И там он её заломает
и лифчик в горошек сорвёт,
в сосудах гормоны играют,
её уж ничто не спасёт.
Но время ещё не настало
её – от любви умирать,
сестрёнка, отдайся ты брату,
чтоб запах родной до утра
под сводами райского сада,
где больше цветам не цвести,
кончается время икры,
уходят, уходят Soldatten,
и ананасы в шампанском
к их холмику не донести.
Вот и всё, смежили очи чёрные,
и когда распили на троих,
словно в опустевшем коридоре
зазвучал прощальный лейб-мотив.
Говоря как частное лицо деепричастному лицу,
свисая с площадок:
бессонница, омар, тариф,
и длинный список
актёров с камешками фраз, и что
конец предельно близок,
но это вовсе не про нас.
Вот лестница, вот сеновал,
я каталог прочёл от Блумингдейла,
синод и сенат замело на сто лет,
замёрз ледокол министерства.
Вот желвак на щеке,
вот батон на столе,
Пикассо на стене,
человек вот, усталый от сердца.
И не разойтись, а потом не уснуть,
а так ведь хочется покоя,
и чтоб легко на свете жить,
и энергичною рукою…
да только некому служить.
Души прекрасные порывы
туши, как таянье свечи,
когда не пьём четвёртый день,
ты посмотри, как мы красивы.
Жить хочется, но говорят,
что в мире есть такая карма,
которую и «Солнцедаром»
с бычком в томате не пронять.
Не спится мне, такие сссуки,
пиши-пиши, им невдомёк,
и замыкается виток
почти смертельной подоплёки.
Но в мире есть такие области:
шумерская или скифская,
и склифосовская-ямская,
где на костях последней доблести
стоят колонны из песка.
А мы, на волосок от смерти,
себе находим оправданье,
мы не рабы, но наши дети
с дежурным пионерским пеньем
поганки ищут утром ранним.
В тумане пригородный поезд
везёт похмельных грибников,
малыш уж отморозил пальчик —
и был таков.
Но – ищут пожарные, ищет милиция,
где бы им с ним бы распить на троих —
в мёрзлых витринах их тёплые лица и
в гулком дворе замороженный крик.
А он в прокуренном вагоне им
Кьеркегора продавал,
его весёлая обложка
старушек била наповал.
Подходя постепенно к далёкой черте,
ты вздыхаешь легко, покоряясь судьбе,
а куда ты уходишь, там нету имён,
только молча зияет оконный проём.
Нет ответа на эти вопросы,
только воет норд-ист, как в ведро,
вот ты, выкрашена купоросом,
замерзая, стоишь у метро.
Мы на улицу все, на дорогу,
на морозную ту благодать,
то учащиеся, то матросы,
слесаря, а то… твою мать.
Там проспектами в траурном марше
воронеют центурий шелка.
Хороша была девушка Саша,
хороша, но уж слишком легка.
Вот и выпьем стакан на плаву,
тот, гранёный, за русские косы,
а потом, закурив папиросу,
по-мужски помолчим на луну.
Ночь меняет рассвет на полслова,
мордой в студне наш дружеский стол.
Поздний поезд идет в Комарово,
в камышах застывает весло.
Поздний лес облысел, роща правая
шелестит на прощанье слова,
и какой барабанной Полтавою
обернулась любая Литва.
Что ж, у мутности рюмки бездонной
в том шашлычном дыму голубом
появляется в облаке банном
исчезающий образ Его.
Он молчит, да ему не до нас,
Днепр далек, он этим и чуден,
поцелуй высыхает Иудин
на поверхности гипсовых глаз.
До поры никому не понять,
что нам сделало это столетье:
игры в бисер в полуночном свете
на рассвете – другая игра.