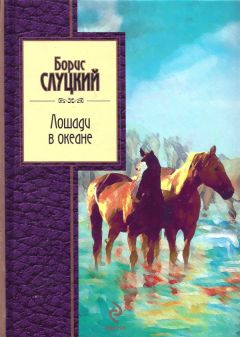«Не пуля была на излете, не птица…»
Не пуля была на излете, не птица —
мы с нашей эпохой ходили
проститься.
Ходили мы глянуть на нашу судьбу,
лежавшую тихо и смирно в гробу.
Как слабо дрожал в светотрубках неон.
Как тихо лежал он — как будто не он.
Не черный, а рыжий, совсем
низкорослый,
совсем невысокий — седой и рябой,
лежал он — вчера еще гордый и
грозный,
и слывший, и бывший всеобщей
судьбой.
«Художники рисуют Ленина…»
Художники рисуют Ленина,
как раньше рисовали Сталина.
А Сталина теперь не велено:
на Сталина все беды взвалены.
Их столько, бед, такое множество!
Такого качества, количества!
Он был не злобное ничтожество,
скорей — жестокое величество.
Холстины клетками расписаны,
и вот сажают в клетки тесные
большие ленинские лысины,
глаза раскосые и честные.
А трубки, а погоны Сталина
на бюстах, на портретах Сталина?
Все, гамузом, в подвалы свалены,
от пола на сажень навалены.
Лежат гранитные и бронзовые,
написанные маслом, мраморные,
а рядом гипсовые, бросовые,
дешевые и необрамленные.
Уволенная и отставленная,
лежит в подвале слава Сталина.
Отвоевался, отшутился,
отпраздновал, отговорил[25].
В короткий некролог вместился
весь список дел, что он творил.
Любил рубашки голубые,
застольный треп и славы дым,
и женщины почти любые
напропалую шли за ним.
Напропалую, наудачу,
навылет жил, орлом и львом,
но ставил равные задачи
себе — с Толстым, при этом — с Львом.
Был солнцем маленькой планеты,
где все не пашут и не жнут,
где все — прозаики, поэты
и критики — бумагу мнут.
Хитро, толково, мудро правил,
судил, рядил, карал, марал
и в чем-то Сталину был равен,
хмельного флота адмирал,
хмельного войска полководец,
в колхозе пьяном — бригадир.
И клял и чтил его народец,
которым он руководил.
Но право живота и смерти
выходит боком нам порой.
Теперь попробуйте измерьте,
герой ли этот мой герой.
В анкетах лгали,
подчищали в метриках,
равно боялись дыма и огня
и не упоминали об Америках,
куда давно уехала родня.
Храня от неприятностей семью,
простую биографию свою
насильно к идеалу приближали
и мелкой дрожью вежливо дрожали.
А биография была проста.
Во всей своей наглядности позорной.
Она — от головы и до хвоста —
просматривалась без трубы подзорной.
Сознанье отражало бытие,
но также искажало и коверкало, —
как рябь, а вовсе не как зеркало,
что честно дело делает свое.
Но кто был более виновен в том:
ручей иль тот, кто в рябь его взирает
и сам себя корит и презирает?
Об этом я вам расскажу потом.
Как меня не приняли на работу
Очень долго прения длились:
два, а может быть, три часа.
Голоса обо мне разделились.
Не сошлись на мне голоса.
Седоусая секретарша,
лет шестидесяти и старше,
вышла, ручками развела,
очень ясно понять дала.
Не понравился, не показался —
в общем, не подошел, не дорос.
Я стоял, как будто касался
не меня
весь этот вопрос.
Я сказал «спасибо» и вышел.
Даже дверью хлопать не стал.
И на улицу Горького вышел.
И почувствовал, как устал.
Так учителем географии
(лучше в городе, можно в район)
я не стал. И в мою биографию
этот год иначе внесен.
Так не взяли меня на работу.
И я не взял ее на себя.
Всю неволю свою, всю охоту
на хореи и ямбы рубя.
На анапесты, амфибрахии,
на свободный и белый стих.
А в учители географии
набирают совсем других.
«Когда мы вернулись с войны…»
Когда мы вернулись с войны,
я понял, что мы не нужны.
Захлебываясь от ностальгии,
от несовершенной вины,
я понял: иные, другие,
совсем не такие нужны.
Господствовала прямота,
и вскользь сообщалося людям,
что заняты ваши места
и освобождать их не будем,
а звания ваши, и чин,
и все ордена, и медали,
конечно, за дело вам дали.
Все это касалось мужчин.
Но в мир не допущен мужской,
к обужам его и одёжам,
я слабою женской рукой
обласкан был и обнадёжен.
Я вдруг ощущал на себе
то черный, то синий, то серый,
смотревший с надеждой и верой
взор. И перемену судьбе
пророчествовали и гласили
не опыт мой и не закон,
а взгляд,
и один только он —
то карий, то серый, то синий.
Они поднимали с земли,
они к небесам увлекали,
и выжить они помогли —
то синий, то серый, то карий.
— Подкеросинь ему пивко,
чтоб заорал он.
(А было это далеко,
ах, за Уралом!)
— Пивко ему подкеросинь
и дай копченок.
Я не люблю растяп, разинь,
в очках, ученых.
У Юли груди — в полведра.
У Юли — челка.
Она любезна и добра,
но к здешним только.
И вот приезжему под нос
суют для пира
кругом уставленный поднос:
копченки, пиво.
Приезжий сорок верст прошел:
какой там запах!
— Холодненькое, хорошо! —
И выпил залпом.
Он для удобства снял очки
и галстук сдвинул.
И вот уже берет бычки,
из банки вынул.
И зал (а это был пивной
зал, поселковый)
следит, что делают со мной.
Большой, толковый.
А я краюшечку жую,
бычки глотаю,
и несчастливой жизнь свою
я не считаю.
А зал (трудяг, быть может, сто)
Кричит: — Присядьте к нам за стол!
И — выпей свежего пивка!
И — как дорога, далека?
А я очки в руках верчу
и Юле шесть рублей плачу.
Философов высылали
вагонами, эшелонами,
а после их поселяли
между лесами зелеными,
а после ими чернили
тундру — белы снега,
а после их заметала
тундра, а также — пурга.
Философы — идеалисты:
туберкулез, пенсне, —
но как перспективы мглисты,
не различишь, как во сне,
томисты, гегельянцы,
платоники[26] и т. д.,
а рядом — преторианцы
с наганами и тэтэ.
Былая жизнь, как чарка,
выпитая до дна.
а рядом — вышка, овчарка,
а смерть — у всех одна.
Приготовлением к гибели
жизнь
кто-то из них назвал.
Эту мысль не выбили
из них
барак и подвал.
Не выбили — подтвердили:
назвавший был не дурак.
Философы осветили
густой заполярный мрак.
Они были мыслью тундры.
От голоданья легки,
величественны, как туры,
небритые, как босяки,
торжественные, как монахи,
плоские, как блины,
но триумфальны, как арки
в Париже
до войны.
«Слишком юный для лагеря…»
Слишком юный для лагеря,
слишком старый для счастья;
восемнадцать мне было в тридцать седьмом.
Этот тридцать седьмой вспоминаю все чаще.
Я серьезные книги читал про Конвент.
Якобинцы и всяческие жирондисты
помогали нащупывать верный ответ.
Сладок запах истории — теплый, густой,
дымный запах, настойчивый запах, кровавый.
Но веселый и бравый, как солдатский постой.
Мне казалось, касалось совсем не меня
то, что рядом со мною происходило,
то, что год этот к памяти так пригвоздило.
Я конспекты писал, в общежитии жил.
Я в трамваях теснился, в столовой питался.
Я не сгинул тогда, почему-то остался.
Поздно ночью без стука вошли и в глаза
потайным фонарем всем студентам светили.
Всем светили и после соседа схватили.
А назавтра опять я конспекты писал,
винегрет покупал, киселем запивал
и домой возвращался в набитом трамвае,
и серьезные книги читал про Конвент,
и в газетах отыскивал скрытые смыслы,
постепенно нащупывал верный ответ.
«Жалко молодого президента…»