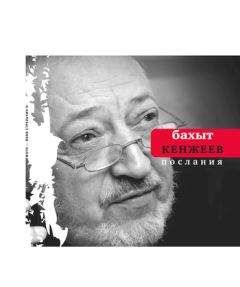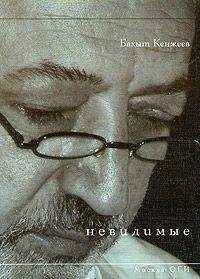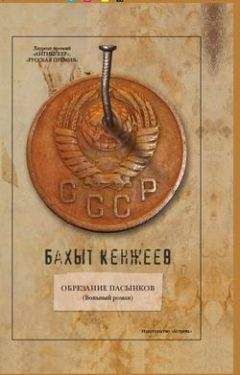«Вещи осени: тыква и брюква…»
Вещи осени: тыква и брюква.
Земляные плоды октября.
Так топорщится каждая буква,
так, признаться, намаялся я.
Вещи осени: брюква и тыква,
горло, обморок, изморозь, медь,
всё, что только сегодня возникло,
а назавтра спешит умереть,
все, которые только возникли,
и вздохнули, и мигом притихли,
лишь молитву твердят невпопад —
там, в заоблачной тьме, не для них ли
многотрудные астры горят?
Я спросил, и они отвечали.
Уходя, не меняйся в лице.
Побелеет железо вначале
и окалиной станет в конце.
Допивай свою лёгкую водку
на крутой родниковой воде,
от рождения отдан на откуп
нехмелеющей осени, где
мир, хворающий ясною язвой,
выбегающий наперерез
ветру времени, вечности праздной,
снисхождению влажных небес…
«Не понимаю, в чём моя вина…»
Не понимаю, в чём моя вина.
Сбылась мечта: теперь я стал писатель,
в журналах, пусть порядком отощавших,
печатаюсь, и даже иногда
свои портреты с мудрым выраженьем
лица – в газетах вижу. И другая
убогая мечта эпохи большевизма
сбылась – теперь я странствовать могу
по белу свету, где-нибудь в Стамбуле,
где спины лицемеров-половых
изогнуты и девы из Ростова
зажиточным челночникам толкают
сомнительные прелести, взирать
с усмешкою бывалого туриста
на Мраморное море, на проливы,
мечту славянофилов, запивая
всё это удовольствие араком —
анисовою водкой, что мутнеет,
когда в неё воды добавишь, – будто
душа поэта в столкновенье с жизнью.
А захочу – могу в Москву приехать,
увидеться с друзьями, и сестрою,
и матерью. Расцвет демократизма
на родине, а мы-то, друг Серёга,
не чаяли. Нас всех произвели
не в маршалы, так в обер-лейтенанты от изящной
словесности, потешного полка
при армии товарищей, ведущей
отечество к иным редутам. Словно
усердный школьник, дабы не отстать
от времени, я заношу в тетрадку
слова: риэлтор, лобстер, киллер, саммит,
винчестер, постер. Жалкие ларьки
сменились бутиками, букинисты
достанут всё, и цены смехотворны.
Короче – рай. Ну, правда, убивают,
зато не за стихи теперь, за деньги,
причём большие. Ну ещё – воруют,
такого воровства, скажу тебе,
наверно, нет нигде, ну разве
в Нигерии какой-нибудь. Ну нищета,
зато свобода. Был бы жив Сопровский —
вот радовался бы. Такой припев
всех наших разговоров за четыре
последних года. Впрочем, сомневаюсь.
Позволь трюизм: вернувшийся с войны
или из лагеря ликует поначалу,
но вскоре наступает отрезвленье:
кто спорит, на свободе много слаще,
но даже в лучшем случае, дружок,
сам знаешь чем прелестный сон земной
кончается.
Распалась связь времён.
Как много лет назад другой поэт —
лысеющий, с торчащими ушами,
в своём хрестоматийном пиджачке
эпохи чесучи, эпохи Осоавиахима,
сумрачно бродил
по улицам, и клялся, что умрёт,
но не прославит, а его никто
не слышал и не слушал…
«Среди длинных рек, среди пыльных книг человек-песок ко всему привык…»
Среди длинных рек, среди пыльных книг человек-песок
ко всему привык,
но язык его вспоминает сдвиг, подвиг, выцветший черновик,
поздний запах моря, родной порог, известняк, что не сохранил
отпечатков окаменевших строк, старомодных рыжих чернил.
Где, в какой элладе, где смерти нет, обрывает ландыш его душа
и глядит младенцем на дальний свет из прохладного шалаша?
Выползает зверь из вечерних нор, пастушонок молча
плетёт венок,
и ведут созвездия первый спор – кто волчонок, а кто щенок.
И пока над крышей визжит норд-ост, человечьи очи
глотают тьму,
в неурочный час сочинитель звёзд робко бодрствует, потому
что влачит его океан, влечёт, обольщает, звенит, течёт, —
и живой земли голубой волчок колыбельную песнь поёт.
«Сколько нажито, сколько уступлено яме земляной, без награды, за так…»
Сколько нажито, сколько уступлено яме земляной,
без награды, за так,
пролетают снежинки ночными роями, с хлебом-солью
в лучистых руках,
и не в плоский аид, не в преддверие рая – на оливковый,
глинистый крит
попадёшь ты, где небо от края до края электрической
медью искрит,
просторечную ночь в сапожищах армейских коротать,
и сцепления дней
разнимать в лабиринте корней арамейских, половецких,
латинских корней,
отражённых в кривом Зазеркалье, под кровом
олимпийского гнева, трубя
в безвоздушную бронзу – чтоб быкоголовый
замирал, вдруг услышав тебя.
29 января 1996
«Лечь заполночь, ворочаться в постели…»
Лечь заполночь, ворочаться в постели,
гадательную книгу отворя,
и на словах «как мы осиротели»
проснуться на исходе января,
где волны молодые торопливы
и враг врагу не подаёт руки,—
в краю, где перезрелые оливы
как нефть, черны, как истина, горьки.
Вой, муза, – мир расщеплен и раздвоен,
где стол был яств – не стоит свечи жечь,
что свет, что тьма – осклабившийся воин
танталовый затачивает меч,
взгляд в сторону, соперники, молчите —
льстить не резон, ни роз ему, ни лент.
Как постарел ты, сумрачный учитель
словесности, пожизненный регент
послевоенной – каменной и ветхой —
империи, в отеческих гробах
знай ищущей двугривенный заветный —
до трёх рублей на водку и табак,
как резок свет созвездий зимних, вещих,
не ведающих страха и стыда,
когда работу начинает резчик
по воздуху замёрзшему, когда,
отбредив будущим и прошлым раем,
освобождаем мы земной объём,
и простыню льняную осязаем,
и незаметно жить перестаём.
Весь путь ещё уложится в единый
миг – сказанное сбудется, но не
жди воздаянья. Неисповедимы
пути его – и ангел, в полусне
парящий, будто снег, над перстью дольней
(и он устал), не улыбнётся нам,
лишь проведёт младенческой ладонью
по опустелым утренним устам.
Как бы во сне – в том самом, лет в тринадцать,
где на закате бил зелёный луч,
где ничего не стоило подняться
и распластаться возле самых туч,
и в страхе плыть над мелкой, дробной картой, —
что видел ты, о чём ты говорил
под утро, где когда-то Леонардо
испытывал заветный винтокрыл?
Вот некто связанный, молчащий перед
синедрионом, с кровью на крылах.
Вот Брейгель – пусть никто ему не верит, —
холст обветшал, окислившийся лак
потрескался – но в клочьях амальгамы
то друга различаем, то врага мы,
пока густеет потный, топкий страх
в толпе, что пятится с распятьями в руках.
Кто воздух перевозит на позорных
телегах, кто глядит издалека
на родину полей и щук озёрных,
то заикаясь, то лишаясь языка, —
а наверху, от гор и мимо пашен
плывёт орёл – и ветр ему не страшен —
на чёрный пень, и мы с тобой за ним
легко и недоверчиво летим.
Мазок к мазку, на выдохе, в размахе
старинной кисти – видишь, вдалеке
вчерашний царь бредёт к дубовой плахе —
в рогожном платье, в жёлтом колпаке, —
проснусь, припомню эту мешковину
и бубенец – и штору отодвину:
кирпич, мороз, люминесцентный час,
да ясный Марс сощурил цепкий глаз…
«Когда приходит юности каюк…»
Когда приходит юности каюк,
мне от фортуны лишнего не надо —
март на исходе. Хочется на юг.
Секундомер стрекочет, как цикада.
Мы так взрослели поздно и засим
до тридцати болтали, после – ныли,
а в зрелости – не просим, не грустим,
ворочаясь в прижизненной могиле.
Но март проходит. Молоток и дрель
из шкафа достаёт домовладелец,
терзает Пан дырявую свирель,
дышу и я, вздыхая и надеясь.
То Тютчева читаю наизусть.
То вижу, как измазан кровью идол
на площади мощёной, – ну и пусть.
Свинья меня не съела, Бог не выдал.
Ещё огарок теплится в руках,
и улица, последняя попытка,
бела, черна и невозвратна, как
дореволюционная открытка…
«Льёт в Риме дождь, как бы твердящий…»
Льёт в Риме дождь, как бы твердящий «верь,
ни в яме не исчезнешь ты, ни в шуме
родных осин», – но умирает зверь,
звезда, волна. И даже Бродский умер.
То жнец, то швец, то в дудочку игрец,
губа в крови, защитный плащ засален —
уже другой, ещё живой певец
растерянно молчит среди развалин.
Не хочет ни смеяться он, ни выть,
латынью пахнет в каменном тумане.
Ну что ещё осталось? всё забыть
и всё назвать своими именами?
Но в этот час безлюден Колизей,
лишь на стене чернеет в лунном свете
посланье от неведомых друзей —
«Мы были здесь: Серёжа, Алик, Петя».
«От райской музыки и адской простоты…»