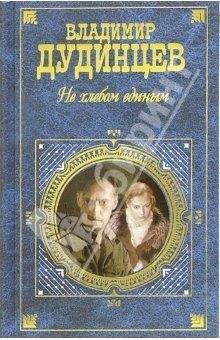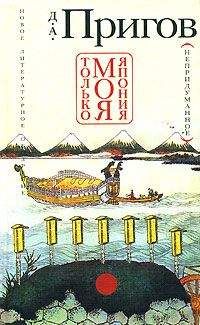Разразилась Великая Отечественная война. Скрыл Алексеев от врачей, что у него не живые ноги, а протезные, и ушел на передовую. И попал он в дивизию своего отца, теперь генерала, и его жены, врача госпиталя. Трудно приходилось стране. Превосходивший ее по численности враг подошел к столице и бросил на нее танки. В этом месте как раз и стоял Алексеев. Три дня сдерживал он вражеские танки, пока не подошло подкрепление. С тяжелым ранением привезли его в госпиталь. Положили на операционный стол, и жена взяла хирургический нож. Алексеев сам просил делать операцию без наркоза. Только срывалось с побледневших губ: "Врешь, не возьмешь". Дивились врачи подобному мужеству и говорили: "Сколько лет в медицине, а такое видим первый раз". Приехал сам генерал, отец, но не узнал сына и говорит: "Ты герой и достоин привилегий". Отвечает Алексеев: "Если я герой и достоин привилегий, товарищ генерал, то отпустите на передовую". Поскольку было у него ранение в голову, удалось ему скрыть от врачей, что ноги у него не живые, а протезные, и ушел он опять на фронт. Тут пришло ему награждение Геройской звездой, хотели вручить, искали, да не могли найти.
6.
Стала страна одолевать врага и бить его на его же территории. И Алексеев перешел на вражескую территорию. Однажды шла битва за немецкий город Карлмарксштадт. Кругом взрывы, бомбы, и заметил Алексеев немецкую девочку в белом платьице на пыльной мостовой. И тогда пополз Алексеев и, заслоня сердцем, вынес ее из огня. С тяжелым ранением привезли его в госпиталь. Положили на операционный стол, и жена взяла хирургический нож. Алексеев сам просил делать операцию без наркоза. Только срывалось с побледневших губ: "Врешь, не возьмешь". Дивились врачи подобному мужеству и говорили: "Сколько лет в медицине, а такое видим первый раз". Приехал сам генерал, отец, не узнал сына и говорит: "Ты герой и достоин привилегий". Отвечает Алексеев: "Если я герой и достоин привилегий, товарищ генерал, то отпустите на передовую". Поскольку было у него ранение в руку, удалось ему опять скрыть от врачей, что ноги у него не живые, а протезные. Тут пришло ему награждение второй Геройской звездой, хотели вручить, искали, да не могли найти.
7.
Загнали врага уже совсем в его логово советские воины, да не могут никак взять последний оплот. Стоит у врага на этом месте огромный страшный дот и не дает никому пройти. Вскочил тогда Алексеев, крикнул громовым голосом "Ура!", подбежал и закрыл дот собственной грудью. Взяли войска Берлин, а Алексеева с тяжелым ранением привезли в госпиталь. Положили на операционный стол, и жена взяла хирургический нож. Алексеев сам просил делать операцию без наркоза. Только срывалось с побледневших губ: "Врешь, не возьмешь". Дивились врачи подобному мужеству и говорили: "Сколько лет в медицине, а такое видим первый раз". Приехал сам генерал, отец, теперь уже маршал, но не узнал сына и говорит: "Ты герой и достоин привилегий". Отвечает Алексеев: "Если я герой и достоин привилегий, товарищ маршал, то дайте мне листок бумаги". Дали ему листок бумаги, и написал он на нем всю свою жизнь. Когда вошли к нему, чтобы сделать инъекцию, то он был уже мертв, но лицо его светилось. Прочла жена записку и зарыдала. Положил маршал руку ей на плечо и говорит: "Была ты жена без вести пропавшего, а стала вдовой героя. Ты должна этим гордиться. Был я отцом без вести пропавшего, а стал отцом героя. Мы отомстим за тебя, сынок".
8.
Много приехало генералов и маршалов, и они лично несли гроб с телом товарища Алексеева. Под звуки артиллерийских стволов опустили маршалы и генералы его в сырую землю и похоронили уже трижды Героем Советского Союза.
А в Берлине до сих пор стоит бронзовый Алексеев и держит правой рукой бронзовый меч, а в левой — бронзовую немецкую девочку.
Предуведомление
Разною порою, бывает, при разной погоде живу я на седьмом этаже. Многое, очень многое (даже странно — как их много, нежелающих, или неумеющих, или воля их на то, или чья воля на них…), многое живет ниже меня. А что выше? — а там ничего нет, поскольку человек глядит в литературу, литература глядит в жизнь, жизнь глядит в природу, а природа глядит в никуда. Ежели в обратном порядке глядеть, тогда, конечно, выше, выходит, что-то есть, пренепременно.
Коли так, то paзное мне встречается вопросительного и утвердительного, смотря по смыслу и отношению ко мне. А отношение ко мне, в общем-то, хорошее, потому что многое себе позволяю, а если человек позволяет себе многое, значит, заранее уверен, что он настолько хороший, что все равно все будет хорошо, или же как погода, истина или сидение на седьмом этаже — это так, потому что так и должно быть. А я им верю — они правы.
Когда было тихо и не хотелось никаких окончательностей от подступавшего к горлу какого-то шершавого кома, какой-то тяжести, хотелось неведомости и невнятности, хотелось счастья, любви всему назло. Рубинштейн записал в свою тетрадочку доказательства:
а) все есть литература;
б) литература есть жизнь;
в) литература, овладевшая массами, страшна и неуправляема;
г) жизнь в образе литературы, овладевшая человеком, есть сила;
д) человек, овладевший жизнью в образе литературы, есть живущий.
Это все случилось мне в ночь с 6 на 12 сентября года 1984 при созерцании сплошной пелены желто-серого мокрого и сырого дождевого потока, шумевшего звуком вскидывающимся, напоминающим слюноотделение при сухоте в горле — слюноотделение трудное, с напряжением всех гортанных и шейных мышц и некоторым неестественным повертыванием, как петушиной, головы и прижатием ее к кадыку, отчего на душе становится тошно и мучительно и есть побудительное желание уйти от всех, лечь спиной к жизни и долго-долго ни о чем не думать.
Сижу я 15 января-февраля 1982–1983 гг. на кухне и в окно закрытое смотрю, а там развертывается московский простор — медленный, тягучий, и смотрю я в него, а он в ответ при моем брезгливом и отдаленном внимании начинает так же медленно и тягуче вытягивать из-за моей спины правую руку, с некоторым ее подергиванием на мелких неподготовленных мышцах и поскрипыванием от запоздалого осознания совершающегося суставов. Вытягивает он мою руку на стол, вкладывает в нее шариковую западногерманскую ручку с черной, чуть отливающей в лиловизну, заправкой и пододвигает уже замаранный листок бумаги:
а) жизнь или созерцание;
б) созерцательная жизнь или созерцательное созерцание;
в) созерцание жизни или созерцание созерцательного;
г) созерцание из жизни или жизнь из созерцания;
д) жизнь из созерцания жизни или жизнь из созерцания созерцательного;
е) убийство жизни посредством созерцания или убийство созерцания посредством жизни;
ж) убийство созерцания посредством созерцания жизни посредством созерцания или убийство жизни посредством убийства жизни;
з) созерцание убийства жизни посредством убийства жизни или жизнь убийства жизни посредством жизни, –
вот что обнаружилось мне напрягшемуся на ввергнутом моему непричастному понужденному истечению себя.
Оглянулся — Кабаков стоит в тренировочных брюках и клетчатой такой рубашонке и говорит безумно: Что ответите-выберете, Дмитрий Александрович? — и улыбается.
Поздней осенью глубоким мартовским временем жизни моей, дня 15 апреля бродил по берегам реки московской Москвы, подбивая отдаленной своей ногой прошлогодние листья, слипшиеся, словно новорожденные, выкинутые на мороз жестоким хозяином-мироедом ласковые мышата-малютки.
И вспомнилось мне как прошлогодним предлетним вечером майской поры того же числа 30 марта ходили мы втроем — я, а по бокам движения меня — двигались Булатов и другой — Эрик Владимирович.
Что есть истина? — спросил Булатов.
Истина есть долг — отвечал Эрик Владимирович.
А что есть долг? — снова спросил Булатов.
Долг есть судьба — опять ответил Эрик Владимирович.
А что есть судьба? — вопросил ровным голосом Булатов.
Судьба есть место — не удивился Эрик Владимирович.
А что есть место? — настаивал Булатов.
Место есть взгляд — разъяснил Эрик Владимирович.
А что есть взгляд? — уже голосом спросил Булатов.
Взгляд есть различение — отпарировал Эрик Владимирович.
А что есть различение? — еще быстрее выпалил Булатов.
Различение есть личность — отразил Эрик Владимирович.
А что есть личность, А что есть Личность? –
— Пошел ты на хуй! –
— А что есть пошел ты на хуй, а что есть пошел ты на хуй?
— А пошел ты на хуй значит пошел ты, сука, на хуй, блядь.
Друзья, — вмешался тут я, — разве можно же в одной, пусть и дружеской, беседе, разрешить все мучащие нас в течение целой жизни тяжелые, иногда для некоторых и губительные, вопросы бытия!