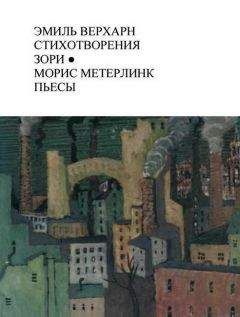Перевод Мих. Донского
Среди степей,
Где почву каменит железный суховей,
В краю равнин и рек великих, орошенном Днепром, и Волгою, и Доном;
И там,
Где в стужу зимнюю могучим льдам
Дано твердыней встать торжественно и гордо
По берегам
Заливов Балтики и скандинавских фьордов;
И дальше, где среди суровой наготы
Азийских плоскогорий
В каком-то судорожном вздыблены напоре
Утесы и хребты, —
Веками варвары одной томились властной,
Неутолимою мечтой:
На запад, запад золотой
Рвались неистово и страстно.
Дерзать готовые всегда,
Бросали клич они, чтоб всем идти туда
Вот первые, забрав телеги, и овчины,
И шерсть у родичей, сквозь горы и долины
Шли в неизвестное, о страхе позабыв.
За ними тьмы других, и ветром заносило
Косматых всадников неистовый призыв.
Вожди их славились огромным ростом, силой:
Спускалась ниже плеч косиц густая медь,
Тому был предком зубр, а этому — медведь.
Как неожиданно срывались толпы эти,
Чтоб покорить, забрать с налета все на свете!
О, массы тяжкие кочующих племен,
И вой, и в зареве пожаров небосклон,
Резни и грабежей полночные забавы,
И ржанье конское, и в поле след кровавый!
О, роковые дни,
Когда лавину тел и голосов они
Сумели, бурные, домчать необоримо
К воротам Рима!
Дремал, раскинувшись по древним берегам
Реки, великий град — и дряхлый и усталый.
Но солнце низкое струилось славой алой
На крыши, золотым подобные щитам,
Как будто поднятым сейчас для обороны.
Капитолийский холм, блистателен, высок,
Надменно утверждал, что он, как прежде, строг,
Наперекор всему прямой и непреклонный.
И взгляды варваров искали меж домов
Дворец Августула[25], дивились, как победны
На небе Лация в торжественный и медный
Закат вознесшиеся статуи богов.
Но медлили они, страшась последней схватки:
Был темным ужасом смятенный дух объят,
Им чудилось — бедой незнаемой грозят
Седые каменные стены древней кладки.
Зловещие для них творились чудеса
Над этим городом: похожи на огромных
Орлов, обрывки туч стремительных и темных
То наплывут, а то очистят небеса.
Когда же ночь сошла и полог затянула,
Повсюду, у домов, у башен, у террас,
Открылись тысячи горящих ярко глаз, —
И страх заворожил и одолел герула[26],
А в мышцах не было той силы, что несла,
Что окрыляла их, когда для дали новой
Отторглись варвары от родины суровой,
И леностью теперь сковало их тела.
Они пошли блуждать в горах и мирных чащах,
Чтоб чуять над собой ветвей привычный свод,
А ветер приносил от городских ворот
Им волны запахов — чужих, густых, дразнящих.
В конце концов
От голода пришлось им выйти из лесов
И стать владыками вселенной.
Победа полная была почти мгновенной.
Когда
На город ринулись они в слепом разгуле, —
Сжималось сердце их от страха, что дерзнули
Прийти сюда.
Но мясо, и вино, и золото, что взято
Из каждого дворца, пиры в домах разврата,
Субуррских[27] чаровниц пылающая плоть, —
Внезапно дали им отвагу побороть,
О Рим, упорное твое высокомерье.
В те дни пришел конец одной великой эре.
О, час, которому и слушать и внимать
Крушенье мощных царств, когда стальная рать
Деяний вековых ложится горьким прахом!
О, толпы, яростью взметенные и страхом!
Железо лязгает, и золото звенит,
Удары молота о мрамор стен и плит,
Фронтоны гордые, что славою повиты,
На землю рушатся, и головы отбиты
У статуй, и в домах ломают сундуки,
Насилуют и жгут, и сжаты кулаки,
И зубы стиснуты; рыданья, вопли, стоны
И груды мертвых тел — здесь девушки и жены:
В зрачках — отчаянье, в зубах — волос клочки
Из бороды, плеча мохнатого, руки…
И пламя надо всем, играющее яро
И вскинутое ввысь безумием пожара!
Перевод Н. Рыковой
Монастыри, —
Всю землю озарял когда-то строй их черный;
В глуби лесной, в выси нагорной,
Горя в лучах зари,
Над ними башни их, как факелы, сверкали;
Созвездия с небес печатями свисали,
И над равнинами, над пеленой озер,
Над деревушками, потупившими взор.
Они стояли в латах
Уставов каменных и догм своих зубчатых.
И думал Рим за всех;
Они же думали для Рима.
Вся жизнь подвластна им — струи потоков тех,
Что пенились в веках, кипя неудержимо.
Везде, из града в град и из села в село,
Простерлось власти их железное крыло.
Народы светлых стран, народы стран туманных —
Размноженная лишь душа монастырей,
Что вкруг Христа плели сеть силлогизмов льдяных,
Что страх несли в сердца бесстрашных королей.
И ни одна душа в себе раздуть не смела
Жар, где бы пламя их святое не горело.
Тысячелетие они,
Как меч в тугих ножнах, рукою, полной силы,
Хранили бдительно в своих стенах, в тени
Людские пылы.
Текли столетия, — и больше не был ум
Бродилом духа;
Исканья умерли, и страстных споров шум
Был чужд для слуха;
Сомненье точно зверь затравленный, едва,
Едва металось,
И жалко погибал смельчак, чья голова
Высокой гордостью венчалась.
О, христианский мир, железный как закон,
Чьи догмы западный согнули небосклон, —
Восстав, кто на него направит гнев свой пьяный?
Но был один монах, и страстный и крутой,
Он воли кулаки сжимал в мечте ночной, —
Его послали в мир германские туманы.
Нагие тексты он святыней не считал.
То были жерди лишь, а не вершина древа:
Под мертвой буквою бессильно дух лежал,
И папа во дворце направо и налево
Благословением и небом торговал.
Повсюду вялые опутали покровы
Собора гордого властительный портал,
И золотом попы, как бы пшеницей новой,
Все христианские засеяли поля.
Бесчисленных святых раскинулась опека
Над мукою людской, ее безмерно для;
Но все не слышал бог стенаний человека.
Хоть видел Лютер над собой
Лишь руки сжатые, грозящие бедой,
Хоть посохов взлетала злоба
Над ним, грозя его преследовать до гроба,
Хоть подымались алтари
Грозою догматов и древних отлучений, —
Ничто не сокрушило гений,
Охваченный волной свободных размышлений
В святом предчувствии зари.
Собою будучи, он мир освободил.
Как цитадель, он совесть возносил
Надменно над своей душою,
И библия была не гробом мертвых слов,
Не беспросветною тюрьмою,
Но садом, зыблемым в сиянии плодов,
Где обретал свободно каждый
Цветок излюбленный и вожделенный плод
И избирал себе однажды
Дорогу верную, что к господу ведет.
Вот наконец та жизнь, открытая широко,
Где вера здравая и жаркая любовь,
Вот христианская грядет идея вновь,
И проводник ее — сверкающее око,
Надменность юная, нескованная кровь.
Пускай еще гремит над миром голос Рима, —
Он, Лютер, под грозой собрал свой урожай;
Германская его душа неукротима,
И дрожь природы в ней струится через край.
Он — человек страстей, лишь правду говорящий;
Как виноград, свою он хочет выжать плоть;
Он никогда не сыт; его души гремящей
И радости его ничем не побороть.
Он яростен и добр, порывист, к вере рьяный,
Он противоречив, он ранит как копье,
И реки благости и гнева ураганы
В его душе кипят, не сокрушив ее.
И посреди побед не знает он покоя…
Когда же смерть легла на властное чело,
Казалось, будто ночь простерла над горою
Неодолимое и черное крыло.
Перевод Г. Шенгели
Когда вошел в Сикстинскую капеллу
Буонарроти, он
Остановился вдруг, как бы насторожен;
Измерил взглядом выгиб свода,
Шагами — расстояние от входа
До алтаря;
Счел силу золотых лучей,
Что в окна бросила закатная заря;
Подумал, как ему взнуздать коней —
Безумных жеребцов труда и созиданья;
Потом ушел до темноты в Кампанью[28].
И линии долин и очертанья гор
Игрою контуров его пьянили взор;
Он зорко подмечал в узлистых и тяжелых
Деревьях, бурею сгибаемых в дугу,
Натугу мощных спин и мышцы торсов голых
И рук, что в небеса подъяты на бегу;
И перед ним предстал весь облик человечий —
Покой, движение, желанья, мысли, речи —
В телесных образах стремительных вещей.
Шел в город ночью он в безмолвии полей,
То гордостью, то вновь смятением объятый:
Ибо видения, что встали перед ним,
Текли и реяли — неуловимый дым, —
Бессильные принять недвижный облик статуй.
На следующий день тугая гроздь досад
В нем лопнула, как под звериной лапой
Вдруг лопается виноград;
И он пошел браниться с папой:
Зачем ему,
Ваятелю, расписывать велели
Известку грубую в капелле,
Что вся погружена во тьму?
Она построена нелепо:
В ярчайший день она темнее склепа!
Какой же прок в том может быть,
Чтоб тень расцвечивать и сумрак золотить?
Где для подмостков он достанет лес достойный:
До купола почти как до небес?
Но папа отвечал, бесстрастный и спокойный:
«Я прикажу срубить мой самый лучший лес».
И вышел Анджело и удалился в Рим,
На папу, на весь мир досадою томим,
И чудилось ему, что тень карнизов скрыла
Несчетных недругов, что, чуя торжество,
Глумятся в тишине над сумеречной силой
И над величием художества его;
И бешено неслись в его угрюмой думе
Движенья и прыжки, исполнены безумий.
Когда он вечером прилег, чтобы уснуть,—
Огнем горячечным его пылала грудь;
Дрожал он, как стрела, среди своих терзаний, —
Стрела, которая еще трепещет в ране.
Чтоб растравить тоску, наполнившую дни,
Внимал он горестям и жалобам родни;
Его ужасный мозг весь клокотал пожаром,
Опустошительным, стремительным и ярым.
Но чем сильнее он страдал,
Чем больше горечи он в сердце накоплял,
Чем больше ввысь росла препятствий разных груда,
Что сам он воздвигал, чтоб отдалить миг чуда,
Которым должен был зажечься труд его, —
Тем жарче плавился в его душе смятенной
Металл творенья исступленный,
Чей он носил в себе и страх и торжество.
Был майский день, колокола звонили,
Когда в капеллу Анджело вошел, —
И мозг его весь покорен был силе.
Он замыслы свои в пучки и связки сплел!
Тела точеные сплетеньем масс и линий
Пред ним отчетливо обрисовались ныне.
В капелле высились огромные леса, —
И он бы мог по ним взойти на небеса.
Лучи прозрачные под сводами скользили,
Смыкая линии в волнах искристой пыли.
Вверх Анджело взбежал по зыбким ступеням,
Минуя по три в раз, насторожен и прям.
Из-под ресниц его взвивался новый пламень;
Он щупал пальцами и нежно гладил камень,
Что красотой одеть и славою теперь
Он должен был. Потом спустился снова
И наложил тяжелых два засова
На дверь.
И там он заперся на месяцы, на годы,
Свирепо жаждая замкнуть
От глаз людских своей работы путь;
С зарею он входил под роковые своды,
Ногою твердою пересилив порог;
Он, как поденщик, выполнял урок;
Безмолвный, яростный, с лицом оцепенелым,
Весь день он занят был своим бессмертным делом.
Уже
Двенадцать парусов[29] он ликами покрыл!
Семь прорицателей и пять сивилл
Вникали в тексты книг, где, как на рубеже,
Пред ними будущее встало,
Как бы литое из металла.
Вдоль острого карниза вихри тел
Стремились и летели за предел;
Их золотые спины гибкой лентой
Опутали антаблементы[30];
Нагие дети ввысь приподняли фронтон;
Гирлянды здесь и там вились вокруг колонн;
Клубился медный змий в своей пещере серной;
Юдифь[31] алела вся от крови Олоферна;
Скалою Голиаф[32] простер безглавый стан,
И в пытке корчился Аман[33].
Уверенно, без исправлений,
Без отдыха, и день за днем,
Смыкался полный круг властительных свершений.
На своде голубом
Сверкнуло Бытие.
Там бог воинственный вонзал свое копье
В хаос, клубившийся над миром;
Диск солнца, диск луны, одетые эфиром,
Свои места в просторе голубом
Двойным отметили клеймом;
Егова реял над текучей бездной,
Носимый ветром, блеск вдыхая звездный;
Твердь, море, горы — все казалось там живым
И силой, строгою и мерной, налитым;
Перед создателем восторженная Ева
Стояла, руки вздев, колена преклонив,
И змий, став женщиной, вдоль рокового древа
Вился, лукавствуя и грудь полуприкрыв;
И чувствовал Адам большую руку божью,
Персты его наполнившую дрожью,
Влекущую его к возвышенным делам;
И Каин с Авелем сжигали жертвы там;
И в винограднике под гроздью золотою
Валился наземь Ной, упившийся вином;
И траурный потоп простерся над землею
Огромным водяным крылом.
Гигантский этот труд, что он один свершил,
Его пыланием Еговы пепелил;
Его могучий ум свершений вынес бремя;
Он бросил на плафон невиданное племя
Существ, бушующих и мощных, как пожар.
Как молния, блистал его жестокий дар;
Он Данта братом стал или Савонаролы[34].
Уста, что создал он, льют не его глаголы;
Зрят не его судьбу глаза, что он зажег;
Но в каждом теле там, в огне любого лика
И гром и отзвуки его души великой.
Он создал целый мир, такой, какой он смог,
И те, кто чтит душой благоговейно, строго
Великолепие латинских гордых дел, —
В капелле царственной, едва войдя в придел,
Его могучий жест увидят в жесте бога.
Был свежий день: лишь осень началась,
Когда художник понял ясно,
Что кончен труд его, великий и прекрасный,
И что работа удалась.
Хвалы вокруг него раскинулись приливом,
Великолепным и бурливым.
Но папа все свой суд произнести не мог;
Его молчанье было как ожог,
И мастер вновь в себя замкнулся,
В свое мучение старинное вернулся,
И гнев и гордость с их тоской
И подозрений диких рой
Помчали в бешеном полете
Циклон трагический в душе Буонарроти.
Перевод Г. Шенгели