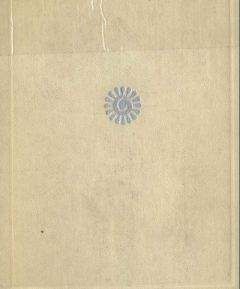«Лес хорош, прохладен, светел…»
Лес хорош, прохладен, светел,
Зацветают сосен свечи,
По верхушкам ходит ветер,
Лес трепещет птичьей речью.
Весь наполнен свежим, новым,
Звонким, пряным и густым
Стиховым зеленым словом,
Над костром веселый дым,
Точно в бездну тысячелетий
Небу шлют земли сыны
Жертву, первую на свете,
И в воде отражены
И костер, и лес, и дети,
Словно изображены
Первым мастером весны,
Что на все сейчас ответил.
За равнодушных лилий полосою,
Из-за кустов, с дорожки не видна,
Большая яма со слепой водою,
В ней зелень юных лип отражена.
Я иногда смотрю на эту яму,
На водяной, тоскливый, тусклый щит,
Дыханием истории упрямой
Мои виски здесь ветер холодит.
Года войны ко мне подходят снова,
Сквозь их туман я вижу наяву —
Здесь танк стоял, закрытый и готовый
Своею грудью отстоять Москву.
И эта яма — яма не простая,
Так близко враг был — сердца на краю,—
А танк стоял, в родную крепь врастая,
Чтоб победить иль умереть в бою.
Теперь здесь тишь… Лишь по дороге мчатся
Грузовики и слышен крик детей,
Которые не могут не смеяться,
Не могут обходиться без затей.
И в этом месте мало кто и знает,
Что значит яма сонная в саду…
А мимо жизнь гремит, цветет, сверкает,
Как новый танк на боевом ходу!
Может быть, то было против правил.
Иль нашла такая полоса,
Начатую запись он оставил,
Впал в раздумье — и не дописал.
Сколько мук земля в себя впитала,
Летопись хранит их, как тайник…
Вышел в степь, безмолвно степь лежала,
И к земле полночной он приник.
И услышал, затаив дыханье,
Дальний гул, что был с землею слит,
То ль грозы далекой грохотанье,
Топот ли бесчисленных копыт,
Стон ли горя, трепетавший глухо,
Спали травы, от росы дымясь.
Он лежал, к земле припавши ухом,
Разгадать грядущее стремясь.
Встал потом он на одно колено,
Весь росой алмазною пыля…
— Будь же ты вовек благословенна.
Радость сердца — русская земля!
Настала тишина,
Не шелохнется нива,
Не плещется волна
И не трепещет ива.
И братья муравьи,
И наши сестры пчелы,
Верша дела свои,
Прервали труд тяжелый.
Ну, просто тишину
Природа предписала,
В ее чудес страну
Пока проникли мало.
Не знаем мы пока,
Что в ульях пчелам снится,
Какие там века?
Какие летописцы?
Все стихло, может быть,
Перед землетрясеньем,
И всех предупредить
Должна в своих владеньях.
Мы в этом не сильны,
И нам гордиться нечем.
Есть время тишины
И в жизни человечьей.
Ждет мир, в тиши влачась,
В безвыходном покое,—
Что дал нам этот час:
Открытье мировое?
Иль музыкальный шквал?
Поэмы чудо строфы?
Иль сердце мира сжал
Пред новой катастрофой?
Уже флоксы стали лиловее.
Маки, маки, я всегда готов
Видеть вас на поздней ассамблее
С летом расстающихся цветов.
Вы, как реки, льетесь по пустыне,
Север наш дает вам свой приют,
На Луне, как выяснилось ныне,
Никакие маки не цветут.
Я люблю вас, полноцветных, крепких,
С криком ваших разноцветных ртов,
Предо мной встаете вы как слепки
С лучших чувств, принявших вид цветов.
В маках розовых, с оборкой белой
Что-то от веселых танцовщиц,
В маках желтых — прелесть онемелых
От восторга славок-небылиц.
Белые — как дети белой ночи,
Легкий пламень, снежный полусон,
Только в алых песня видеть хочет
Алость губ и алый шелк знамен.
Потому что смертною порою,
Облетев, покроют наяву,
Точно кровью павшего героя,
Лепестками алыми траву.
«Опять стою на мартовской поляне…»
Опять стою на мартовской поляне,
Опять весна — уж им потерян счет,
И в памяти, в лесу воспоминаний,
Снег оседает, тает старый лед.
И рушатся, как ледяные горы,
Громады лет, вдруг превращаясь в сны,
Но прошлого весенние просторы
Необозримо мне возвращены.
Вновь не могу я вдоволь насмотреться
На чудеса воскресших красок дня,
Вернувшись из немыслимого детства,
Бессмертный грач приветствует меня!
Мы с ним идем по солнечному склону,
На край полей, где, как судьба, пряма,
Как будто по чужому небосклону,
Прошла заката рдяная кайма.
Чья там бродит тень незримо,
От беды ослепла?
Это плачет Хиросима
В облаках из пепла.
Чей там голос в жарком мраке
Слышен исступленный?
Это плачет Нагасаки
На земле сожженной.
В этом плаче и рыданьи
Никакой нет фальши,
Мир весь замер в ожиданьи:
«Кто заплачет дальше?»
Дети мира, день не розов,
Раз по всей планете
Бродит темная угроза,
Берегитесь, дети!
У костра в саду, после прогулки,
Задремав, увидел: я в горах,
Будто я сижу за старым Гулом,
У ночного сванского костра.
На зеленой маленькой поляне,—
Перед ней встает, как призрак, лед,—
Тень большая Миши Хергиани[1]
По стене по Ушбинской идет.
Искры блещут, по горе маячат,
Точно ночи скальная тоска,
Точно все снега беззвучно плачут,
Вздох лавин ловя издалека.
Камнепад разрушил ревом грома
Тишину приснившихся громад,
Смёл он сванский мой костер знакомый,
Что горел так много лет назад.
Сонную смахнул с лица я одурь,
А в саду костер — как слюдяной,
Тих и мал, мои зато уж годы
Выше сосен встали надо мной.
"Наш век пройдет. Откроются архивы…"
Наш век пройдет. Откроются архивы,
И все, что было скрыто до сих пор,
Все тайные истории извивы
Покажут миру славу и позор.
Богов иных тогда померкнут лики,
И обнажится всякая беда,
Но то, что было истинно великим,
Останется великим навсегда.
ВТОРОЕ ДЕКАБРЯ — ПЕСЕННЫЙ ДЕНЬ
Герою Социалистического Трудя Александру Прокофьеву.
Облака идут гурьбою
Над твоей Кобоной,
Над травою голубою,
Над волной зеленой.
Так идут гурьбой чудесной,
В Ленинграде — к дому —
В старом сердце столько песен,
Впору — молодому!
Облака те непростые,
Это — жизни годы,
Годы легкие, литые.
Есть стальной породы.
Годы алые, как вишни,
Вешние истомы,
Годы поступи неслышной,
Годы — словно громы.
Встал хозяин, чтоб размяться,
Песенник и воин,
И сказал — Я, нынче, братцы,
Лучших слов достоин.
Вы хулите, иль хвалите,
Не судите строго,
Я на свете — славный житель,
Видел в жизни много.
Со щитом и на щите был,
Всякое бывало,
Всякая там к черту небыль
Предо мной дрожала.
Этот день — хороший вестник
На большой неделе,
Так споем же, братцы, песню,
Как бывало пели.
Когда были помоложе,
Кровь кипит по жилам,
Будем петь ее чуть строже,
Но со старым пылом!
Пусть ту песню слышно будет
Всему белу свету!..
И пошла та песня в люди,
И конца ей нету.
"Поет нам утро не трубой старинной…"