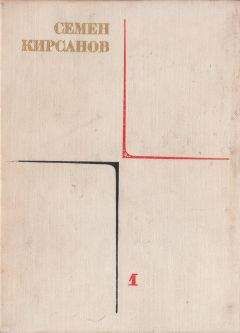ЭТОТ МИР (1945–1956)
Я увидал корабль,
который плыл
без весел, без винта и без ветрил,
я увидал аэроплан без крыл,
который тихо в воздухе парил.
И я привык
смотреть со стороны
на странные явления вдали,
на мчащегося около Луны
искусственного спутника Земли.
Я пью необычайное вино,
но — виноградом не было оно,
ем белый хлеб,
не росший никогда,
искусный синтез мысли и труда.
Чиста, как небо,
новая земля,
и наш граненый дом из хрусталя,
но мало в нем знакомых и родных,
лишь ты одна — последняя из них.
Нам каждому уже по триста лет,
но мы еще не мыслим о конце,
и ни морщинки ни единой нет
ни на моем,
ни на твоем лице.
Хвосты ракет за тучами скользят,
их водят электронные умы…
Скажи,
тебе не хочется назад,
в двадцатый век, где прежде жили мы?
Где надо было землю корчевать,
под бомбами в землянках ночевать,
пилить дрова и хлебом дорожить,
и только там
хотелось жить и жить…
Шестерки, семерки, восьмерки, девятки, десятки.
Опять невпопад — затесались король и валет…
Пасьянс не выходит! Опять полколоды в остатке.
И все это тянется дикое множество лет!
Что можно узнать во дворце костюмерной колоды?
Какие затмения Солнца, кометы и воины придут и пройдут?
Какие отлеты, какие на землю прилеты?
Какие новинки пилоты у звезд украдут?
Когда я уснул, как в гадании, с дамою рядом, —
Вот только тогда стасовался и ожил пасьянс на столе
и тысяча лет пронеслась над упавшим снарядом,
над Вязьмою, Мюнхеном, Перу и Па-де-Кале.
Цветы раскрывались в минуту. По просекам бегали лани.
Дома улетали. Деревья за парами шли по следам.
На море качались киоски любых исполнений желаний.
Машины сидели в раздумье — что сделать хорошего нам?
Весь воздух был в аэростатах. Но не для воздушной тревоги.
Гуляние происходило. По звездам катали ребят.
Там девушка шла на свиданье по узкой канатной дороге,
и к ней через десять трапеций скользил и летел акробат.
На тучах работали люди. Они улучшали погоду.
Все им удавалось — и ветер, и солнце, и дождик грибной.
Вдруг вышел поэт, он шатался без дела, тасуя колоду,
стихи перед ним танцевали, как дети, с гармошкой губной.
Пасьянс у него получался. Он, каждую карту снимая,
показывал очень далекий, за тысячелетием, день —
вдруг желтые стены Китая, вдруг пестрое Первое мая,
и вдруг из-за стекол трамвая — моя померещилась тень.
А мы? Где мы будем? Вам кажется — мы разложились?
Мы живы, мы теплые почвы с рябинками древней грозы.
Цветные пасьянсы лугов, и дворцов, и гуляний на нас разложились,
и рядышком вышли — валеты, и дамы, и короли, и тузы.
Я не скажу: над нами пусть не каплет,
а после нас — хоть мировой потоп!
Нет, я хочу,
чтоб тысяч через пять лет
вели следы вдоль непросохших троп;
чтоб босиком по лужам мчались дети
на свете
без котомки и тюрьмы,
на свете, где за пять тысячелетий
шли под дождем и обнимались мы.
А если так считать: мол, безразлично,
что будет с нашей, лучшей из планет, —
не знаю,
как кому,
а мне вот лично
тогда и жить на свете смысла нет.
Уважаю
боевую старость,
блеск в глазах,
кипение в груди!
Уважаю тех,
кому досталось
больше,
чем осталось позади!
Уважаю
творческие муки,
нетерпенья взрывчатого тол,
Павлова
решительные руки,
брошенные яростно
на стол!
В мире,
молодом, как Маяковский,
седина
вполне хороший цвет!
Я не буду
жить по-стариковски —
даже
в девяносто девять лет!
По-моему,
пора кончать скучать,
по-моему,
пора начать звучать,
стучать в ворота,
мчать на поворотах,
на сто вопросов
строчкой отвечать!
По-моему,
пора стихи с зевотой,
с икотой,
рифмоваться неохотой
из наших альманахов
исключать,
кукушек хор
заставить замолчать
и квакушку
загнать в ее болото.
По-моему,
пора сдавать в печать
лишь книги,
что под кожей переплета
таят уменье
радий излучать,
труд облегчать,
лечить и обучать,
и из беды
друг друга выручать,
и рану,
если нужно,
облучать,
и освещать
дорогу для полета!..
Вот какая нам предстоит гигантская работа.
Два винта крутануло,
рывок — и
ты в трехслойную высь
поднялась…
И от облака
в гулкой тревоге
не отнять
растревоженных глаз.
Крылья, крылья,
подумайте,
как
дорога
ваша легкая ноша!
Ты уже
в кучевых облаках,
ты вот-вот
стратосферы коснешься!
О, я верю
в звучащие части,
в прочность поршней
и в сортность колец,
верю в жизнь,
в окрыленное счастье,
в окружающий солнце
венец!
Прочь, тревога!
Моторы, вперед!
Вы —
мое нетерпенье поймете.
Ту же скорость
и песня берет,
до конца
неизменно
в полете!
Что мне выгода,
выручка,
польза,
когда мчусь,
виражами кружа?
Не в низине я жил
и не ползал
шелестящей дорожкой
ужа!
Не в тиши,
никогда не в тиши,
не в низине,
нет, нет,
не в низине!
Я и сердце толкал:
«Поспеши
за стремящейся жизнью
в бензине!»
Не замолкнет мотор,
довезет!
На полет,
на движенье надейся!
Должен выжать я
лет девятьсот
за свои
пятьдесят или десять!
День в кристаллах,
в небесном пуху,
там рычит быстрота,
нарастая.
Мне лишь видеть тебя
наверху,
песня
жизни
моей скоростная!
Дальше,
дальше,
в залив занебесный,
в синеве
плоскостями скользя,
нам,
врезаясь в грядущее
песней,
и на миг
задержаться нельзя!