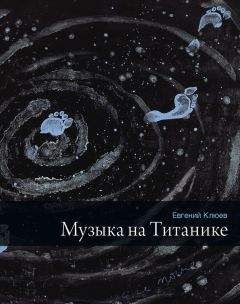Ознакомительная версия.
Красная нить
В памяти – в полный рост
мост через реку Квай…
ну и зачем мне теперь этот мост —
мост через реку Квай?
Древний какой-то пласт —
бренный какой-то мост
и небосвод, чужой и кривой,
низко над головой.
Бешеный соловей
свил из тяжелых свай
самый воздушный замысел свой —
мост через реку Квай,
чтоб оптимист-фантаст
бросился строить мост —
эй, рядовой, вперёд, не зевай! —
мост через реку Квай.
Есть ли тут кто живой? —
спрашивает конвой
и под весёлый железный свист
нежно глядит окрест.
Мечется часовой
кромкой береговой,
но все обитатели этих мест
канули в реку Квай.
Реку взять под арест —
в воду уходит шест
и мёртвых колонну ловит за хвост:
семь миллионов с лихвой.
Всех их какой-то хлюст
складывает внахлёст,
и вот уже надо всею Москвой —
мост через реку Квай.
«От взрыва чуть дверь не слетела с петель, а вы говорите…»
От взрыва чуть дверь не слетела с петель, а вы говорите…
На то ведь и цель, чтобы целиться в цель, а вы говорите!
Вот тут бы я мог написать и газель,
но время не то, и газель не отсель,
и бьётся в окне днём и ночью метель —
в широком квадрате.
Конечно, однажды не станет и нас – понятное дело.
Случайный фугас – и всё скрылось из глаз, и жизнь пролетела!
Да только как будто бы рано туда —
на что тебе этот подснежник, балда! —
пригнись и беги, раз такая беда,
из зоны прицела.
Всему своё время, мальчиш-кибальчиш, всему свои сроки.
Напрасно ты с жизнью и смертью шалишь… учил бы уроки!
Настанет весна, и закапает с крыш,
и станет вдруг жалко отдать ни за грош
хороший наш мир… а что он не хорош —
так всё это враки!
Враги, говоришь… так прости и врагу – в чём дело, голубчик?
А то не бывает, чтоб в чьём-то мозгу сломался шурупчик!
А то не бывает, что мы на бегу
раздавим какую-нибудь мелюзгу —
всё в жизни бывает на каждом шагу:
окопчик, уступчик…
Ах, пусть нас отпустят опять по домам – приказом по роте —
и все мы поедем по синим холмам в зелёной карете,
и прямо, наверное, в рай загремим —
и будем безгрешны в эфире прямом,
и всё это непостижимо умом,
а вы говорите!
…были бы вопросы все давно решены
только нет на свете никакой тишины
ситцевая птичка прилетела с войны
ситцевая птичка прилетела с войны
не пугайся деточка и слезы утри
ситцевая птичка с карамелькой внутри
сладко будет петь тебе до самой зари
сладко будет петь тебе до самой зари
она будет петь тебе всю ночь напролёт
ситцевые песни под ручной пулемёт
ситцевая птичка никогда не умрёт
ситцевая птичка никогда не умрёт
не пугайся деточка огней и теней
карамелька сладкая всей жизни вкусней
а что жизнь не сладкая так дело не в ней
а что жизнь не сладкая так дело не в ней
не пугайся деточка коней и камней
ситец дело прочное всей жизни прочней
а что жизнь не прочная так дело не в ней
а что жизнь не прочная так дело не в ней
«Там оплакано всё: каждый двор и подъезд…»
Там оплакано всё: каждый двор и подъезд —
как давно я уже не видал этих мест! —
там на каждом окне до сих пор по слезе
и сплошное passй composй.
Там запуталось всё, всё свернулось в клубок,
и состарившийся усмехается Бог:
дескать, здравствуй, дружок, мы тебя заждались
среди пыльных огней и кулис,
где шатается сцена, и доски скрипят,
и болтаются двери, и чай не допит,
и сбивающийся на фальцет монолог
застревает груди поперёк!
Я поеду туда, потому что устал,
я решу, что пора бы уже по местам
всё расставить, как было: пусть будет опять
всё стоять, и стоять, и стоять!
Но какую веревочку ни потяни,
а не вытащить дня – обрываются дни
прямо на полуслове, на полустроке,
и концы остаются в клубке.
Нет, пускай он укатится, этот клубок,
в те края, где сидел на окне голубок,
о ту пору, как я, о ту пору, как я…
Боже, как я люблю те края!
Берлин, 9 января 2009 года
Вот и падает бетонное домино —
ах, бумажное, ах, воздушное домино!
Я вдруг вспомнил, что я там не был давным-давно —
у ворот Бранденбургских, правая сторона…
Между тем лишь оттуда жизнь моя и видна —
всё неплотное, непонятное полотно,
на котором дыра за дырой, за пятном пятно
и чужое крутят кино.
Домино побежало: одна, другая волна —
и заплакал весь город, заплакала вся страна,
и заплакал весь мир, ибо всем нам одна цена:
мы никто, мы кирпичики домино…
И не наша вина, никогда не наша вина,
что не наша война, никогда не наша война
происходит на суше, на море и даже на —
на душе, где всегда темно.
Мы никто: Одиссей чужое смотрит кино
про руно золотое, шагреневое руно —
и сирены поют, и идут корабли на дно.
Только пальчиком ткни – и былым временам хана,
и какая-нибудь шпана, но всегда шпана
объявляет, что жить отныне разрешено
или запрещено, – и падает домино,
и становится всё равно.
«А гильотина скажет вжик…»
А гильотина скажет вжик —
и неба нет как нет.
И скажет жизнь: прощай, чужак! —
и улыбнётся вслед.
Ты все мосты давно пожёг,
какой же ты герой?
Лети, дружок, на свой лужок —
вот там и умирай.
Дрожит истории движок:
сейчас его толкнут —
и пропадёт твой бережок
из виду в пять минут.
Но для чего тебе вожак,
зовущий в новый рай?
Лети, дружок, на свой лужок,
вот там и умирай.
Кому – вожак, кому – лежак:
мы все на свой манер.
Да не возьмут тебя ни ЖЭК,
ни милиционер,
ни та далёкая страна,
куда ты налегке…
А смерть – она везде одна:
и там, и на лужке.
«Вот список забытых вещей…»
Вот список забытых вещей:
свисток, закатившийся в щель,
истрёпанный фантик, заржавленный винтик,
охрипшая в детстве пищаль,
сезонка за прошлый сезон,
слезинка из книжки про дзэн,
рисунок на майке, квартира на Мойке
и градом побитый газон.
Сюда же: изношенный чин,
печаль безо всяких причин,
крушенье иллюзий и пара коллизий
с толпой небольших величин —
с мечтой или прочей туфтой,
лет тридцать назад изжитой,
с любовью великой, с короткой разлукой
и жирной под ними чертой.
Куда с этим всем, не пойму,
в какую кромешную тьму,
к высокому Богу, к далёкому магу,
к монарху, к тетрарху – к кому:
тут, дескать, такие дела,
тут жизнь началась и прошла,
и маленький мальчик гремит в колокольчик,
не жалуя колокола.
«Вся эта морока, вся эта напраслина…»
Вся эта морока, вся эта напраслина
одичавшей воли
хороша, но, в общем, полностью бессмысленна…
зря мы танцевали.
Зря мы разливали долгожданной публике
золотое зелье —
счастье ускользнуло на случайном облаке
в облике газели.
Короли, поэты, рыцари, притворщики
с рогом Оберона…
Помнишь, раньше было так легко, так творчески —
помнишь, было рано?
Целовались в небе, обнимались нa поле,
висли на консоли —
разве мы хотели, чтоб так сильно хлопали,
на руках носили?
Разве мы не знали – злыми, полинялыми
поплетёмся к рампе…
Что ты пишешь кончившимися чернилами
при потухшей лампе?
Вот тут у нас домашнее вино,
тут огурцы последнего засола —
так это начинается кино
уютно, хорошо и развеслло:
с сидением на кухне до утра,
когда уже совсем бесцветны лица,
и с запоздалым, лишним ну пора,
теперь уже совсем пора стелиться,
с перетеканьем утра в день-деньской —
забыл какой, но хорошо б субботний,
с похмельем, с посещеньем мастерской
и всякой прочей милой тягомотней,
с ещё одной бессонной ночью и с
надеждою на милость воскресенья,
но – Шахразады прячут свой сюрприз
в колючих зарослях, на дне бассейна,
за ширмою, в шкатулке под ключом,
в тени почти случайных оговорок —
и открываются не раньше, чем
их застигает утро номер сорок…
Вот так и наша с вами жизнь пройдёт —
и пусть проходит, тут уж либо – либо:
не век же нам годами напролёт
плодить шедевры мелкого калибра —
Бог нам судил запутаться в кистях
великой и таинственной мороки
и всех простить, которые гостят
и не покинут нас уже вовеки.
Ах ты глупая деточка,
мой небесный дружок,
тут не Божия меточка —
тут обычный ожог,
но уж если и меточка,
то никак не стрела —
тут шелкувая плёточка
ненароком прошла.
Все блудницы, все бражники
подтвердят как один,
что плохие художники,
а не Тот Господин,
нас уродуют… – радуют
плётками на плацу:
по живому орудуют,
по живому лицу.
Не хоти себе, деточка,
этих шёлковых мук:
ни к чему тебе меточка
да и плац ни к чему б —
нас пусть, пруклятых, балуют,
продолжая трепать:
то малюют, то – милуют,
то малюют опять.
«Жизнь снова с путей не сошла, а могла б…»
Ознакомительная версия.