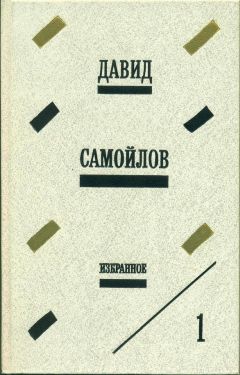«Поэзия пусть отстает…»
Поэзия пусть отстает
От просторечья —
И не на день, и не на год —
На полстолетья.
За это время отпадет
Все то, что лживо.
И в грудь поэзии падет
Все то, что живо.
I
Дельвиг… Лень… Младая дева…
Утро… Слабая метель…
Выплывает из напева
Детской елки канитель.
Засыпай, окутан ленью.
В окнах — снега белизна.
Для труда и размышленья
Старость грубая нужна.
И к чему, на самом деле,
Нам тревожить ход времен!
Белокурые метели…
Дельвиг… Дева… Сладкий сон…
II
Две жизни не прожить.
А эту, что дана,
Не все равно — тянуть
длиннее иль короче?
Закуривай табак,
налей себе вина,
Поверь бессоннице
и сочиняй полночи.
Нет-нет, не зря
хранится идеал,
Принадлежащий поколенью!..
О Дельвиг,
ты достиг такого ленью,
Чего трудом
не каждый достигал!
И в этом, может быть,
итог
Почти полвека,
нами прожитого,—
Промолвить Дельвигу
доверенное слово
И завязать шейной платок.
Чаадаев, помнишь ли былое?
А. Пушкин
Наконец я познал свободу.
Все равно, какую погоду
За окном предвещает ночь.
Дом по крышу снегом укутан.
И каким-то новым уютом
Овевает его метель.
Спят все чада мои и други.
Где-то спят лесные пичуги.
Красногорские рощи спят.
Анна спит. Ее сновиденья
Так ясны, что слышится пенье
И разумный их разговор.
Молодой поэт Улялюмов
Сел писать. Потом, передумав,
Тоже спит — ладонь под щекой.
Словом, спят все шумы и звуки,
Губы, волосы, щеки, руки,
Облака, сады и снега.
Спят камины, соборы, псальмы,
Спят шандалы, как написал бы
Замечательный лирик Н.
Спят все чада мои и други.
Хорошо, что юные вьюги
К нам летят из дальней округи,
Как стеклянные бубенцы.
Было, видно, около часа.
Ко-то вдруг ко мне постучался.
Незнакомец стоял в дверях.
Он вошел, похож на Алеко.
Где-то этого человека
Я встречал. А может быть — нет.
Я услышал: всхлипнула тройка
Бубенцами. Звякнула бойко
И опять унеслась в снега.
Я сказал: — Прошу! Ради бога!
Не трудна ли была дорога? —
Он ответил: — Ах, пустяки!
И не надо думать о чуде.
Ведь напрасно делятся люди
На усопших и на живых.
Мне забавно времен смешенье.
Ведь любое наше свершенье
Независимо от времен.
Я ответил: — Может, вы правы,
Но сильнее нету отравы,
Чем привязанность к бытию.
Мы уже дошли до буколик,
Ибо путь наш был слишком горек,
И ужасен с временем спор.
Но есть дней и садов здоровье,
И поэтому я с любовью
Размышляю о том, что есть.
Ничего не прошу у века,
Кроме звания человека,
А бессмертье и так дано.
Если речь идет лишь об этом,
То не стоило быть поэтом.
Жаль, что это мне суждено.
Он ответил: — Да, хорошо вам
Жить при этом мненье готовом,
Не познав сумы и тюрьмы.
Неужели возврат к истокам
Может в этом веке жестоком
Напоить сердца и умы?
Не напрасно ли мы возносим
Силу песен, мудрость ремесел,
Старых празднеств брагу и сыть?
Я не ведаю, как нам быть.
Длилась ночь, пока мы молчали.
Наконец вдали прокричали
Предрассветные петухи.
Гость мой спал, утопая в кресле.
Спали степи, разъезды, рельсы,
Дымы, улицы и дома.
Улялюмов на жестком ложе
Прошептал, терзаясь: — О боже!
И добавил: — Ах, пустяки!
Наконец сновиденья Анны
Задремали, стали туманны,
Растеклись по глади реки.
Надо себя сжечь
И превратиться в речь.
Сжечь себя дотла,
Чтоб только речь жгла.
«Кто устоял в сей жизни трудной…»
Кто устоял в сей жизни трудной,
Тому трубы не страшен судной
Звук безнадежный и нагой.
Вся наша жизнь — самосожженье,
Но сладко медленное тленье
И страшен жертвенный огонь…
Фердинанд, сын Фердинанда,
Из утрехтских Фердинандов
Был при войске Бонапарта
Маркитант из маркитантов.
Впереди гремят тамбуры,
Трубачи глядят сурово.
Позади плетутся фуры
Маркитанта полкового.
Предок полулегендарный,
Блудный отпрыск ювелира
Понял, что нельзя бездарней
Жить, не познавая мира.
Не караты, а кареты.
Уйма герцогов и свиты.
Офицеры разодеты.
Рядовые крепко сшиты.
Бонапарт короны дарит
И печет свои победы.
Фердинанд печет и жарит
Офицерские обеды.
Бонапарт диктует венским,
И берлинским, и саксонским.
Фердинанд торгует рейнским,
И туринским, и бургонским.
Бонапарт идет за Неман,
Что весьма неблагородно.
Фердинанд девицу Нейман
Умыкает из-под Гродно.
Русский дух, зима ли, бог ли
Бонапарта покарали.
На обломанной оглобле
Фердинанд сидит в печали.
Вьюга пляшет круговую.
Снег валит в пустую фуру.
Ах, порой в себе я чую
Фердинандову натуру!..
Я не склонен к аксельбантам,
Не мечтаю о геройстве.
Я б хотел быть маркитантом
При огромном свежем войске.
(Картина)
Мария была курчава.
Толстые губы припухли.
Она дитя качала,
Помешивая угли.
Потрескавшейся, смуглой
Рукой в ночное время
Помешивала угли.
Так было в Вифлееме.
Шли пастухи от стада,
Между собой говорили:
— Зайти, узнать бы надо,
Что там в доме Марии?
Вошли. В дыре для дыма
Одна звезда горела.
Мария была нелюдима.
Сидела, ребенка грела.
И старший воскликнул: — Мальчик!
И благословил ее сына.
И, помолившись, младший
Дал ей хлеба и сыра.
И поднял третий старец
Родившееся чадо.
И пел, что новый агнец
Явился среди стада.
Да минет его голод,
Не минет его достаток.
Пусть век его будет долог,
А час скончания краток.
И желтыми угольками
Глядели на них бараны,
Как двигали кадыками
И бороды задирали.
И, сотворив заклинанье,
Сказали: — Откроем вены
Баранам, свершим закланье,
Да будут благословенны!
Сказала хрипло:— Баранов
Зовут Шошуа и Мадох.
И богу я не отдам их,
А также ягнят и маток.
— Как знаешь,— они отвечали,
Гляди, не накликай печали!..—
Шли, головами качали
И пожимали плечами.
Вы меня берегите, подмосковные срубы,
Деревянные ульи медового лета.
Я люблю этих сосен гудящие струны
И парного тумана душистое млеко.
Чем унять теребящую горечь рябины,
Этот вяжущий вкус предосеннего сока?
И смородинных листьев непреоборимый
Запах? Чувствуют — им увядать недалеко.
Промелькнет паутинка, как первая проседь,
Прокричит на сосне одинокая птица.
И пора уже прозу презренную бросить,
Заодно от поэзии освободиться.