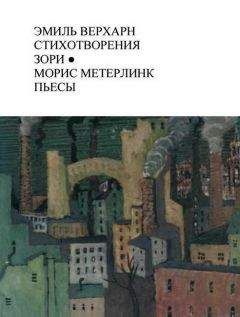Перевод Валентина Дмитриева
Мы мирно курс ведем под звездными огнями,
И месяц срезанный плывет над кораблем,
Нагроможденье рей с крутыми парусами
Так четко в зеркале отражено морском!
Ночь вдохновенная, спокойно холодея,
Горит среди пространств, отражена в волне,
И тихо кружится созвездие Персея
С Большой Медведицей в холодной вышине.
А снасти четкие, от фока до бизани,
От носа до кормы, где светит огонек,
Доныне бывшие сплетеньем строгой ткани,
Вдруг превращаются в запутанный клубок.
Но каждый их порыв передается дрожью
Громаде корабля, стремящейся вперед;
Упругая волна, ложась к его подножью,
В широкие моря все паруса несет.
Ночь в чистоте своей еще просторней стала,
Далекий след кормы, змеясь, бежит во тьму,
И слышит человек, стоящий у штурвала,
Как весь корабль, дрожа, покорствует ему.
Он сам качается над смертью и над бездной,
Он дружит с прихотью и ветра и светил;
Их подчинив давно своей руке железной,
Он словно и простор и вечность покорил.
Перевод Вс. Рождественского
Из книги «Вся Фландрия»
(1904–1911)
О, дом, затерянный в глуши седой зимы,
Среди морских ветров, и фландрских дюн, и тьмы!
Едва горит, чадя, светильня лампы медной,
И холод ноября и ночь в лачуге бедной,
Глухими ставнями закрыт провал окна,
И тенью от сетей расчерчена стена.
И пахнет травами морскими, пахнет йодом
В убогом очаге, под закоптелым сводом.
Отец, два дня в волнах скитаясь, изнемог,
Вернулся он и спит. И сон его глубок.
Ребенка кормит мать. И лампа тень густую
Кладет, едва светя, на грудь ее нагую.
Присев на сломанный треногий табурет,
Кисет и трубку взял угрюмый старый дед,
И слышно в тишине лишь тяжкое дыханье
Да трубки сиплое, глухое клокотанье.
А там, во мгле,
Там вихри бешеной ордой
Несутся, завывая, над землей.
Из-за крутых валов они летят и рыщут,
Бог весть какой в ночи зловещей жертвы ищут.
Безумной скачкой их исхлестан небосклон.
Песок с прибрежных дюн стеной до туч взметен…
Они в порыве озлобленья
Так роют и терзают прах,
Что, кажется, и мертвым нет спасенья
В гробах.
О, как печальна жизнь средь нищеты и горя,
Под небом сумрачным, близ яростного моря!
Мать и дитя, старик в углу возле стола —
Обломок прошлого, он жив, но жизнь прошла.
И все-таки ему, хоть велика усталость,
Привычный груз труда влачить еще осталось.
О, как жестока жизнь в глуши седой зимы,
Когда валы ревут и вторят им холмы!
И мать у очага, где угасает пламя,
Ребенка обняла дрожащими руками.
Вой ветра слушает, молчит она и ждет,
Неведомой беды предчувствуя приход,
И плачет и скорбит. И дом рыбачий старый,
Как в кулаке гнездо, ноябрь сжимает ярый.
Перевод А. Корсуна
Широкие каймы пустынных берегов,
Все тех же самых волн все тот же вопль и рев
С конца в конец того же фландрского приморья,
Песчаных дюн холмы и пепельные взгорья,
Недобрая земля, жестокая порой,
Земля, где вечная борьба, и вечно вой
Ветров, и вечные тревоги и усилья,
Где бури зимние над нами вихрят крылья
И стены черные вздымает сквозь туман
Клокочущий тоской и злобой океан, —
Спасибо вам за то, что вы у нас такие,
Как смерть, как жизнь в ее мгновенья грозовые!
От вас избыток сил у наших сыновей,
И в бедах и в трудах упорство молодое;
От вас они светлы той дерзкой красотою,
Что неосознанно живет в сердцах людей
И в смертный бой влечет одолевать злосчастье.
Спокойным мужеством вы наделили их
В привычных пагубах, в опасностях лихих,
Которыми грозит осеннее ненастье;
От вас у девушек, что победили страх
Еще невестами изведать вдовье горе, —
Любовь и верности к тем, кого в седое море
Сурово шлет нужда на барках и ладьях,
Чтоб в час, когда тепло у очага родного
И тело к телу льнет в уютной тьме лачуг,
Счастливым отдыхом и ласками подруг
Могли насытиться вернувшиеся с лова.
Страна полуночных и западных ветров,
Несущих соль морей и терпкий запах йода,
Тобой закалена крутая плоть народа
И много сил дано рукам его сынов,
Чтоб, властные, они вложили труд и волю
В печальный милый край, что им достался в долю.
Пускай возникли здесь дворцы и купола,
Как сон диковинный из камня и стекла,
И город встал у вод, морской овеян солью, —
Вам, парни Фландрии и девушки, лишь вам
Быть сопричастными я волнам, и ветрам,
Прилива бурного могучему раздолью.
Вас, дети моря, с ним ничто не разлучит,
От моря ваших душ неистовство и сила,
И очи вам его сиянье засветило,
И в вашей поступи прибойный ритм звучит.
А те из вас, кто всех бесстрашней и суровей,
Они еще верны заветам древней крови:
Потомки викингов[35] на всех путях морских
Пьянеют яростью прапрадедов своих,
Что уходили в смерть на кораблях, объятых
Огнем, без спутников, без парусов крылатых,
Без весел, чтоб найти торжественный покой
Багряным вечером в пучине золотой.
Перевод Н. Рыковой
Ведя ряды солдат, блудниц веселых круг,
Ведя священников и ворожей с собою,
Смелее Гектора, героя древней Трои,
Гильом Жюлье, архидиакон, вдруг
Пришел защитником страны, что под ударом
Склонилась, — в час, когда колокола
Звонили и тоска их медная текла
Над Брюгге старым.
Он был горяч, и юн, и жаркой волей пьян;
Владычествовал он над городом старинным
Невольно, ибо дар ему чудесный дан:
Везде, где б ни был он, —
Быть господином.
В нем было все: и похоть и закон;
Свое желание считал он высшим правом,
И даже смерть беспечно видел он
Лишь празднеством в саду кровавом.
Леса стальных мечей и золотых знамен
Зарей сверкающей закрыли небосклон;
На высотах, над Кортрейком безмолвным,
Недвижной яростью застыл
Французов мстительных неукротимый пыл.
«Во Фландрии быть властелином полным
Хочу», — сказал король. Его полки,
Как море буйное, прекрасны и легки,
Собрались там, чтоб рвать на части
Тяжелую, упрямую страну,
Чтоб окунуть ее в волну
Свирепой власти.
О, миги те, что под землею
Прожили мертвые, когда
Их сыновья, готовясь к бою,
С могилами прощались навсегда,
И вдруг щепоть священной почвы брали
С которою отцов смешался прах,
И эту горсть песка съедали,
Чтоб смелость укрепить в сердцах!
Гильом был здесь. Они катились мимо,
Грубы и тяжелы, как легионы Рима, —
И он уверовал в грядущий ряд побед.
Велел он камыши обманным покрывалом
Валить на гладь болот, по ямам и провалам,
Которые вода глодала сотни лет.
Казалась твердою земля — была же бездной.
И брюггские ткачи сомкнули строй железный,
По тайникам глухим схоронены
Ничто не двигалось. Фламандцы твердо ждали
Врагов, что хлынут к ним из озаренной дали, —
Утесы храбрости и глыбы тишины.
Легки, сверкая и кипя, как пена,
Что убелила удила коней,
Французы двигались. Измена
Вилась вкруг шлемов их и вкруг мечей, —
Они ж текли беспечным роем,
Шли безрассудно вольным строем, —
И вдруг: треск, лязг, паденья, всплески вод,
Крик, бешенство. И смерть среди болот.
«Да, густо падают: как яблоки под бурей», —
Сказал Гильом, а там —
Все новые ряды
Текли к предательски прикрытой амбразуре,
На трупы свежие валясь среди воды;
А там —
Все новые полки, сливая с блеском дали,
С лучом зари — сиянье грозной стали,
Все новые полки вставали,
И мнилось им глаза закрыв,
В горнило смерти их безумный влек порыв.
Поникла Франция, и Фландрия спасалась!
Когда ж, натужившись, растягивая жилы,
Пылая яростью, сгорая буйной силой,
Бароны выбрались на боевых конях
По гатям мертвых тел из страшного разреза, —
Их взлет, их взмах
Разбился о фламандское железо.
То алый, дикий был, то был чудесный миг.
Гильом пьянел от жертв, носясь по полю боя;
Кровь рдела у ноздрей, в зубах восторга крик
Скрипел, и смех его носился над резнею;
И тем, кто перед ним забрало подымал,
Прося о милости, — его кулак громадный
Расплющивал чело; свирепый, плотоядный,
Он вместе с гибелью им о стыде кричал
Быть побежденными мужицкою рукою.
Его безумный гнев рос бешеной волною:
Он жаждал вгрызться в них и лишь потом убить.
Чесальщики, ткачи и мясники толпою
Носились вслед за ним, не уставая лить
Кровь, как вино на пире исступленном
Убийств и ярости, и стадом опьяненным
Они топтали всё. Смеясь,
Могучи, как дубы, и полны силы страстной,
Загнали рыцарей они, как скот безвластный,
Обратно в грязь.
Они топтали их, безжизненно простертых,
На раны ставя каблуки в упор,
И начался грабеж оружья, и с ботфортов
Слетали золотые звезды шпор.
Колокола, как люди, пьяны,
Весь день звонили сквозь туманы,
Вещая о победе городам,
И герцогские шпоры
Корзинами несли бойцы в соборы
В дар алтарям.
Валяльщики, ткачи и сукновалы
Под звон колоколов свой длили пляс усталый;
Там шлем напялил шерстобит;
Там строй солдат, блудницами влекомый,
На весь окутанный цветным штандартом щит
Вознес Гильома;
Уже давно
Струился сидр, и пенилось вино,
И брагу из бокалов тяжких пили,
И улыбался вождь, склоняясь головой,
Своим гадальщиком, чьих тайных знаний строй
У мира на глазах цвет королевских лилий
Ему позволил смять тяжелою рукой.
Перевод Г. Шенгели