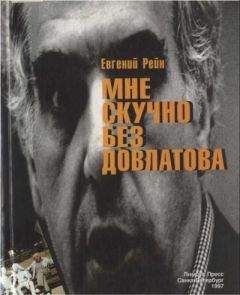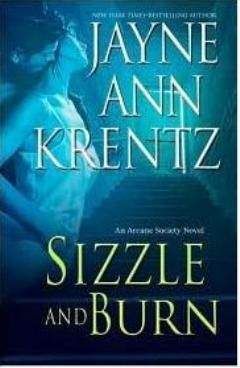На «Жигулях», ведомых женской ручкой,
мы въехали в ночное Муравьеве
и осветили фарами снега.
Стоял хозяин дома на пороге
своей избушки в девятнадцать комнат,
был стол накрыт, кипел на кухне чай!
О, этот дом был знаменит изрядно,
его построили в годах пятидесятых
на сталинские премии, к нему
прирезали гектаров десять леса,
два прудика, речушку и запруду,
и окружили каменной стеной,
и заперли калитку на засов,
спустив с цепи кавказскую овчарку.
И вот он был открыт — великий дом!
Его хозяин — подлинный хозяин, —
Лауреат, вельможа и писатель,
годами пребывал в любимой Ялте
с женой, секретарем и кошкой Азой.
А здесь вот, в Муравьеве, сын его
свой правил бал; а старшая сестра
давным-давно жила в Канаде
с детьми и мужем, критиком кино.
Был стол накрыт, кипел на кухне чай.
Приехало нас трое: Вова Раков,
водительница наша Виолетта
(ошибочка годов тридцатых, ныне
зовется просто Ветой). Ну, и я.
Хозяина же звали Александром,
по кличке Саня, Саня Шевардин.
Ему пошел двадцать девятый годик,
он выучил пятнадцать языков,
издал ученых книг четыре штуки
и докторскую ересь написал.
(Хотя не защитил еще, а впрочем,
уж верьте — непременно защитит).
Я знал его давно, и был он чем-то
несимпатичен мне и симпатичен;
перемешалось в нем то родовое,
отцовское, с каким-то новым стилем,
уже мне недоступным, — это страшный
провал в десяток лет
Меж мной и Саней. А впрочем,
больше я его любил.
Вот мы уселись, выпили чайку
с вареньями такими и сякими,
с цветочным медом, пряником, ватрушкой,
все было в этом доме, но хозяин
молодой не пил вина, и было поздновато
его искать в поселке Муравьево,
тем более что постная девица,
лет двадцати, уродка и очкарик
(она вела Шевардина хозяйство),
нам объяснила, что вина не может
быть в этом доме: Александр не пьет.
Но я-то знал, что это дом особый,
я двадцать лет бывал у них в гостях
и кое-что соображал.
И я предположил: вино лежит
в каком-то тайнике. Но только где?
Тут подали салат и эскалопы,
и экономка вежливо сказала:
«Оставьте эскалоп и две ватрушки,
еще приедет Леночка Кускова». —
«Какая еще Леночка Кускова?
А кто она?» — «Она? Она — поэт». —
«А ваше мненье, Александр?» — «Мое?
Она — поэт. Но больше секретарша
моя; обширнейшая переписка,
корреспонденты разных континентов,
архивы, связи, — все это она» —
«А кроме этого?» — «А кроме — так,
студентка на третьем курсе
где-то на вечернем
и машинистка фирмы „Интурист“». —
«Ну, ладно. Бог с ней,
все-таки так поздно. Как доберется?» —
«Ходят электрички до двух часов». —
«А можно ли чаек подразогреть?» —
«Не только можно, нужно».
Я вышел в сад. Под северною чашей
небес, где, как сказал поэт,
нет ничего совсем и не бывает,
стоял прекрасный, строевой, сосновый
японским лаком отливавший лес,
в нем что-то копошилось, верно, белки,
и мартовские звезды крупной солью
рассыпались, и от залива шел
соленый дух Атлантики и жизни. И где-то
пел Высоцкий на Магнитке.
И было хорошо. Но где вино?
И тут я увидал — в калитку входит
высокая фигурочка в дубленке
с авоськами и сумками. «Ах, вот,
приехала. Привет тебе, Кускова». —
«А вы тот самый?» — «Да, тот самый я». —
«Хотите выпить?» — «Очень, очень, очень.
Но мы вина, увы, не захватили.
Оно есть в доме? За все ответственность
беру я на себя». — «Не знаю, тут немало
есть секретов Шевардиных.
И я не знаю где». —
«А есть ли здесь чердак?» — «Чердак?
Конечно. По задней лестнице наверх.
Там будет люк с кольцом. Откиньте и влезайте». —
«Попробую. Идите в дом, Елена.
А то под этим белофинским небом
вы слишком соблазнительны». —
«А вы уж что-то больно скоры на забавы» —
«Ну-ну, идите». И она ушла.
Я люк откинул, снял ботинки, чтобы
меня не услыхали те, внизу.
И чиркнул спичкой. Боже! Боже правый!
Какие сундуки, сто чемоданов,
Рояль без ножек, битое трюмо,
Лопаты, грабли, скаты старой «Волги»,
не то, не то, портрет вождя работы
Герасимова, чуть ли не авторское
повторенье, портрет Хрущева —
фото в толстой раме,
портрет какой-то дамы в полушубке,
ушанке со звездой и с автоматом
через плечо — за нею саквояж.
Попробуем — не поддается!
Что ж, подсунем ключ.
И повернем, как фомкой. Ух!
Открывается. Ну, разве я не прав?!
Четырнадцать бутылок «Еревана» —
все это куплено давно, когда бутылка
такого коньяка еще была доступна,
теперь цена ей сорок пять рублей!
Ну, сколько взять? Четыре для начала.
И я, тихонько на носки ступая,
спускаюсь вниз с бутылками,
усердно держа их за утонченные горла,
и прячу в гардеробе под пальто.
А в комнатах уже неразбериха:
Скучает Виолетта, Вова Раков
грызет мизинец — старая привычка
прославленного кинодраматурга,
плейбоя и истерика. Кускова
дожевывает жадно эскалоп,
ватрушки ест и запивает чаем.
Я объясняю им по одному тихонечко,
что нынче происходит.
Выходим погулять. В моей дохе
за пазухой бутылки.
Под муравьевским небом «Ереван»
прекраснее мальвазии Шекспира,
прекраснее бургундского Рабле
и лучше булгаковской белоголовки.
Он греет, он наяривает в жилах,
и мартовская ночь так широка,
и светят окна шевардинской дачи,
и нам пора обратно. Третий час.
А утро все же утро: и работа,
И Ленинград, и множество забот.
Нас четверо: домохозяйка Сани
и сам он не пошли гулять, — они должны
вычитывать всю эту ночь работу:
«Старофранцузский суффикс „эн“,
его значение, закат и возрожденье».
И вот четыре допиты бутылки,
за час прогулки мы совсем пьяны.
У Виолетты десять лет роман
с Вовулей Раковым, они ушли вперед
и говорят на собственном наречье
запутавшихся старых побратимов
любви и дружбы, — верно, есть у них
о чем поговорить. А я с Кусковой
целуюсь под ущербною луной на голубой
заснеженной поляне под елями и соснами.
Она так молода, ей двадцать два, мне сорок.
Распахиваю жалкую ее
плешиво-самодельную дубленку —
целую плечи, шею, грудь, живот
под трикотажной кофточкой. Тепло,
и «Ереван» свое свершает дело, и так
неспешно падает снежок с еловых лап,
и все еще Высоцкий поет, что Лондон,
Вена и Париж открыты, но ему туда не надо.
И я считаю: прав певец, куда, зачем
в такую ночь, когда у нас поля заснеженные
в тихом Муравьеве. Я говорю ей:
«Лена! Девятнадцать на даче комнат,
где-нибудь для нас найдется тоже
уголок укромный». — «Нет, не могу!
Не здесь! У нас роман с Шевардиным,
и он меня прогонит». — «Он не узнает,
девятнадцать комнат, в них можно затеряться». —
«Не могу!» — «Эй, вы куда пропали?» —
Виолетта аукает, и мы идем домой.
Сияют окна. Александр не спит.
Домохозяйка зверски правит гранки.
Трезвонит телефон. «Алло, Париж?» —
и чешет Александр по-европейски.
Потом он вызывает Монреаль,
потом зачем-то Мюнхен и Варшаву…
Боже, Боже мой! Десятка полтора годков назад,
когда студентом, другом той сестры,
что сгинула в Канаде, я ходил
вот в этот дом, когда его хозяин-лауреат
вещал под простоквашу о судьбах той литературы,
где творили Толстой, и Достоевский, и Леонтьев,
когда хозяин этой дачи щедро делился с нами
новостями съездов и пленумов СП…
Да я бы душу отдал Люциферу в заклад
и на пари, что нет, не может быть вот этой
ночи. Пора в постели. Раков с Виолеттой
закрылись на веранде, я иду в пустую
спальню — две таблетки снотворного —
— не спится.
А телефон Шевардина звонит, звонит,
звонит.
И чьи-то беглые шаги по коридору,
я выхожу: Кускова в полосатой пижаме
Александра после ванны идет в постель,
туда к Шевардину. Теперь попалась!..
Опять звонит какой-то Авиньон,
сестра, возможно; это к ней, сюда,
на эту дачу двадцать лет назад
приехал я. Теперь и спать охота,
подействовало. Все, конец, провал.