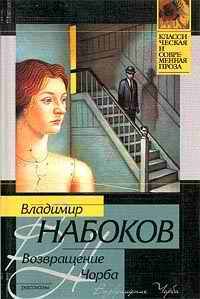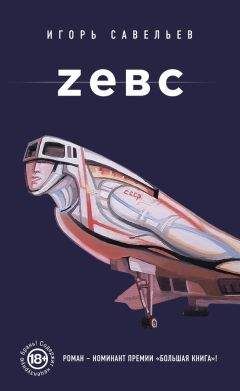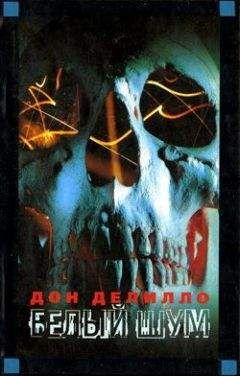1927
Будильнику на утро задаю
урок, и в сумрак отпускаю,
как шар воздушный, комнату мою,
и облегченно в сон вступаю.
Меня берет — уже во сне самом —
как бы вторичная дремота.
Туманный стол. Сидящих за столом
не вижу. Все мы ждем кого-то.
Фонарь карманный кто-то из гостей
на дверь, как пистолет, наводит.
И, ростом выше и лицом светлей,
убитый друг со смехом входит.
Я говорю без удивленья с ним,
живым, и знаю, нет обмана.
Со лба его сошла, как легкий грим,
смертельная когда-то рана.
Мы говорим. Мне весело. Но вдруг —
заминка, странное стесненье.
Меня отводит в сторону мой друг
и что-то шепчет в объясненье.
Но я не слышу. Длительный звонок
на представленье созывает:
будильник повторяет свой урок,
и день мне веки прорывает.
Лишь миг один неправильный на вид
мир падает, как кошка, сразу
на все четыре лапы, и стоит,
знакомый разуму и глазу.
Но, Боже мой, — когда припомнишь сон,
случайно, днем, в чужой гостиной,
или, сверкнув, придет на память он
пред оружейною витриной,
как благодарен силам неземным,
что могут мертвые нам сниться.
Как этим сном, событием ночным,
душа смятенная гордится!
1927
На белой площади поэт
запечатлел твой силуэт.
Домой, в непраздничный мороз,
ты елку черную понес.
Пальто российское до пят.
Калоши по снегу скрипят.
С зубчатой елкой на спине
ты шел по ровной белизне,
сам черный, сгорбленный, худой,
уткнувшись в ворот бородой,
в снегах не наших площадей,
с немецкой елочкой своей.
И в поэтический овал
твой силуэт я врисовал.
1925
К нам в городок приехал в гости
бродячий цирк на семь ночей.
Блистали трубы на помосте,
надулись щеки трубачей.
На площадь, убранную странно,
мы все глядели — синий мрак,
собор святого Иоанна
и сотня пестрая зевак.
Дыханье трубы затаили,
и над бесшумною толпой
вдруг тишину переступили
куранты звонкою стопой.
И в вышине, перед старинным
собором, на тугой канат,
шестом покачивая длинным,
шагнул, сияя, акробат.
Курантов звон, пока он длился,
пока в нем пребывал Господь,
как будто в свет преобразился
и в вышине облекся в плоть.
Стена соборная щербата
и ослепительна была;
тень голубая акробата
подвижно на нее легла.
Все выше над резьбой портала,
где в нише — статуя и крест,
тень угловатая ступала,
неся свой вытянутый шест.
И вдруг над башней с циферблатом,
ночною схвачен синевой,
исчез он с трепетом крылатым —
прелестный облик теневой.
И снова заиграли трубы,
меж тем как, потен и тяжел,
в погасших блестках, гаер грубый
за подаяньем к нам сошел.
1925
Шварцвальд
Слоняюсь переулками без цели,
прислушиваюсь к древним временам:
при Цезаре цикады те же пели,
и то же солнце стлалось по стенам.
Поет платан, и ствол в пятнистом блеске;
поет лавчонка; можно отстранить
легко звенящий бисер занавески:
поет портной, вытягивая нить.
И женщина у круглого фонтана
поет, полощет синее белье,
и пятнами ложится тень платана
на камни, на корзину, на нее.
Как хорошо в звенящем мире этом
скользя плечом вдоль меловых оград,
быть русским заблудившимся поэтом
средь лепета латинского цикад!
19 августа 1923
Солье-Пон
Странствуя, ночуя у чужих,
я гляжу на спутников моих,
я ловлю их говор тусклый.
Роковых я требую примет:
кто увидит родину, кто нет,
кто уснет в земле нерусской.
Если б знать. Ведь странникам даны
только сны о родине, а сны
ничего не переменят.
Что таить — случается и мне
видеть сны счастливые: во сне
я со станции в именье
еду, не могу сидеть, стою
в тарантасе тряском, узнаю
все толчки весенних рытвин,
еду, с непокрытой головой,
белый, что платок твой, и с душой,
слишком полной для молитвы.
Господи, я требую примет:
кто увидит родину, кто нет,
кто уснет в земле нерусской.
Если б знать. За годом валит год,
даже тем, кто верует и ждет,
даже мне бывает грустно.
Только сон утешит иногда.
Не на области и города,
не на волости и села,
вся Россия делится на сны,
что несметным странникам даны
на чужбине, ночью долгой.
1926
Вот комната. Еще полуживая,
но оживет до завтрашнего дня.
Зеркальный шкап глядит, не узнавая,
как ясное безумье, на меня.
В который раз выкладываю вещи,
знакомлюсь вновь с причудами ключей;
и медленно вся комната трепещет,
и медленно становится моей.
Совершено. Все призвано к участью
в моем существованье, каждый звук:
скрип ящика, своею доброй пастью
пласты белья берущего из рук.
И рамы, запирающейся плохо,
стук по ночам — отмщенье за сквозняк,
возня мышей, их карликовый грохот,
и чей-то приближающийся шаг:
он никогда не подойдет вплотную;
как на воде за кругом круг, идет
и пропадает, и опять я чую,
как он вздохнул и двинулся вперед.
Включаю свет. Все тихо. На перину
свет падает малиновым холмом.
Все хорошо. И скоро я покину
вот эту комнату и этот дом.
Я много знал таких покорных комнат,
но пригляжусь, и грустно станет мне:
никто здесь не полюбит, не запомнит
старательных узоров на стене.
Сухую акварельную картину
и лампу в старом платьице сквозном
забуду сам, когда и я покину
вот эту комнату и этот дом.
В другой пойду: опять однообразность
обоев, то же кресло у окна…
Но грустно мне: чем незаметней разность,
тем, может быть, божественней она.
И может быть, когда похолодеем
и в голый рай из жизни перейдем,
забывчивость земную пожалеем,
не зная, чем обставить новый дом…
1926
Смеркается. Казнен. С Голгофы отвалив,
спускается толпа, виясь между олив,
подобно медленному змию;
и матери глядят, как под гору, в туман
увещевающий уводит Иоанн
седую, страшную Марию.
Уложит спать ее и сам приляжет он,
и будет до утра подслушивать сквозь сон
ее рыданья и томленье.
Что, если у нее остался бы Христос
и плотничал, и пел? Что, если этих слез
не стоит наше искупленье?
Воскреснет Божий Сын, сияньем окружен;
у гроба, в третий день, виденье встретит жен,
вотще купивших ароматы;
светящуюся плоть ощупает Фома,
от веянья чудес земля сойдет с ума,
и будут многие распяты.
Мария, что тебе до бреда рыбарей!
Неосязаемо над горестью твоей
дни проплывают, и ни в третий,
ни в сотый, никогда не вспрянет он на зов,
твой смуглый первенец, лепивший воробьев
на солнцепеке, в Назарете.
1925