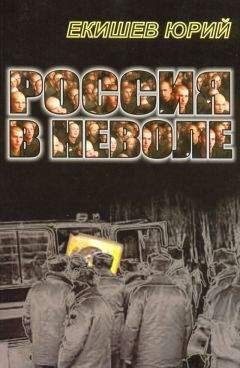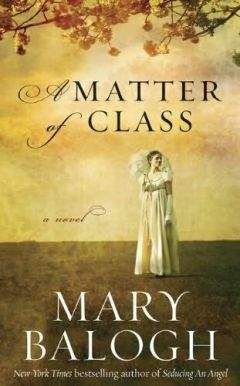Улялюм
Небеса были серого цвета,
Были сухи и скорбны листы,
Были сжаты и смяты листы.
За огнем отгоревшего лета
Ночь пришла, сон глухой черноты,
Близь туманного озера Обер,
Там, где сходятся ведьмы на пир,
Где лесной заколдованный мир,
Возле дымного озера Обер,
В зачарованной области Вир.
Там однажды, в аллее Титанов,
Я с моею Душою блуждал,
Я с Психеей, с Душою блуждал.
В эти дни трепетанья вулканов
Я сердечным огнем побеждал,
Я спешил, я горел, я блистал; —
Точно серные токи на Яник,
Бороздящие горный оплот,
Возле полюса, токи, что Яник
Покидают, струясь от высот.
Мы менялися лаской привета,
Но в глазах затаилася мгла,
Наша память неверной была,
Мы забыли, что умерло лето,
Что Октябрьская полночь пришла,
Мы забыли, что осень пришла,
И не вспомнили озеро Обер,
Где открылся нам некогда мир,
Это дымное озеро Обер,
И излюбленный ведьмами Вир.
Но когда уже ночь постарела
И на звездных небесных часах
Был намек на рассвет в небесах, —
Что-то облачным сном забелело
Перед нами, в неясных лучах,
И внезапно предстал серебристый
Полумесяц, двурогой чертой,
Полумесяц Астарты лучистый,
Очевидный двойной красотой.
Я промолвил: «Астарта нежнее
И теплей, чем Диана, она —
В царстве вздохов, и вздохов полна:
Увидав, что, в тоске не слабея,
Здесь душа затомилась одна, —
Чрез созвездие Льва проникая,
Показала она в облаках
Путь к забвенной тиши в небесах,
И, чело перед Львом не склоняя,
С нежной лаской в горящих глазах,
Над берлогою Льва возникая,
Засветилась для нас в небесах».
Но Психея, свой перст поднимая,
«Я не верю, – промолвила, – в сны
Этой бледной богини Весны.
О, не медли, – в ней бледность больная!
О, бежим! Поспешим! Мы должны!»
И в испуге, в истоме бессилья,
Не хотела, чтоб дальше мы шли,
И ее ослабевшие крылья
Опускались до самой земли, —
И влачились – влачились в пыли.
Я ответил: «То страх лишь напрасный,
Устремимся на трепетный свет,
В нем кристальность, обмана в нем нет,
Сибиллически – ярко – прекрасный,
В нем Надежды манящий привет,
Он сквозь ночь нам роняет свой след.
О, уверуем в это сиянье,
Так зовет оно вкрадчиво к снам,
Так правдивы его обещанья
Быть звездой путеводною нам,
Быть призывом, сквозь ночь, к Небесам!»
Так ласкал, утешал я Психею
Толкованием звездных судеб,
Зоркий страх в ней утих и ослеп.
И прошли до конца мы аллею,
И внезапно увидели склеп,
С круговым начертанием склеп.
«Что гласит эта надпись?» – сказал я,
И, как ветра осеннего шум,
Этот вздох, этот стон услыхал я:
«Ты не знал? Улялюм – Улялюм —
Здесь могила твоей Улялюм».
И, сраженный словами ответа,
Задрожав, как на ветке листы,
Как сухие под ветром листы,
Я вскричал: «Значит, умерло лето,
Это осень и сон черноты,
Небеса потемневшего цвета.
Ровно – год, как на кладбище лета
Я здесь ночью Октябрьской блуждал,
Я здесь с ношею мертвой блуждал.
Эта ночь была ночь без просвета,
Самый год в эту ночь умирал, —
Что за демон сюда нас зазвал?
О, я знаю теперь, это – Обер,
О, я знаю теперь, это – Вир,
Это – дымное озеро Обер
И излюбленный ведьмами Вир».
Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостною думой,
Над старинными томами я склонялся в полусне,
Грезам странным отдавался, вдруг неясный звук раздался,
Будто кто-то постучался – постучался в дверь ко мне.
«Это, верно, – прошептал я, – гость в полночной тишине,
Гость стучится в дверь ко мне».
Ясно помню… Ожиданья… Поздней осени рыданья…
И в камине очертанья тускло тлеющих углей…
О, как жаждал я рассвета! Как я тщетно ждал ответа
На страданье, без привета, на вопрос о ней, о ней,
О Леноре, что блистала ярче всех земных огней,
О светиле прежних дней.
И завес пурпурных трепет издавал как будто лепет,
Трепет, лепет, наполнявший темным чувством сердце мне.
Непонятный страх смиряя, встал я с места, повторяя:
«Это только гость, блуждая, постучался в дверь ко мне,
Поздний гость приюта просит в полуночной тишине, —
Гость стучится в дверь ко мне».
Подавив свои сомненья, победивши опасенья,
Я сказал: «Не осудите замедленья моего!
Этой полночью ненастной я вздремнул, и стук неясный
Слишком тих был, стук неясный, – и не слышал я его,
Я не слышал» – тут раскрыл я дверь жилища моего; —
Тьма, и больше ничего.
Взор застыл, во тьме стесненный, и стоял я изумленный,
Снам отдавшись, недоступным на земле ни для кого;
Но как прежде ночь молчала, тьма душе не отвечала,
Лишь – «Ленора!» – прозвучало имя солнца моего, —
Это я шепнул, и эхо повторило вновь его,
Эхо, больше ничего.
Вновь я в комнату вернулся – обернулся – содрогнулся, —
Стук раздался, но слышнее, чем звучал он до того.
«Верно, что-нибудь сломилось, что-нибудь пошевелилось,
Там за ставнями забилось у окошка моего,
Это ветер, усмирю я трепет сердца моего, —
Ветер, больше ничего».
Я толкнул окно с решеткой, – тотчас важною походкой
Из-за ставней вышел Ворон, гордый Ворон старых дней,
Не склонился он учтиво, но, как лорд, вошел спесиво,
И, взмахнув крылом лениво, в пышной важности своей,
Он взлетел на бюст Паллады, что над дверью был моей,
Он взлетел – и сел над ней.
От печали я очнулся и невольно усмехнулся,
Видя важность этой птицы, жившей долгие года.
«Твой хохол ощипан славно, и глядишь ты презабавно, —
Я промолвил, – но скажи мне: в царстве тьмы, где Ночь всегда,
Как ты звался, гордый Ворон, там, где Ночь царит всегда?»
Молвил Ворон: «Никогда».
Птица ясно отвечала, и хоть смысла было мало,
Подивился я всем сердцем на ответ ее тогда.
Да и кто не подивится, кто с такой мечтой сроднится,
Кто поверить согласится, чтобы где-нибудь когда —
Сел над дверью – говорящий без запинки, без труда —
Ворон с кличкой: «Никогда».
И, взирая так сурово, лишь одно твердил он слово,
Точно всю он душу вылил в этом слове «Никогда»,
И крылами не взмахнул он, и пером не шевельнул он,
Я шепнул: «Друзья сокрылись вот уж многие года,
Завтра он меня покинет, как Надежды, навсегда».
Ворон молвил: «Никогда».
Услыхав ответ удачный, вздрогнул я в тревоге мрачной.
«Верно, был он, – я подумал, – у того, чья жизнь – Беда,
У страдальца, чьи мученья возрастали, как теченье
Рек весной, чье отреченье от Надежды навсегда
В песне вылилось – о счастье, что, погибнув навсегда,
Вновь не вспыхнет никогда».
Но, от скорби отдыхая, улыбаясь и вздыхая,
Кресло я свое придвинул против Ворона тогда,
И, склонясь на бархат нежный, я фантазии безбрежной
Отдался душой мятежной: «Это – Ворон, Ворон, да.
Но о чем твердит зловещий этим черным «Никогда»,
Страшным криком «Никогда».
Я сидел, догадок полный и задумчиво-безмолвный,
Взоры птицы жгли мне сердце, как огнистая звезда,
И с печалью запоздалой, головой своей усталой,
Я прильнул к подушке алой, и подумал я тогда:
Я один, на бархат алый та, кого любил всегда,
Не прильнет уж никогда.
Но, постой, вокруг темнеет, и как будто кто-то веет,
То с кадильницей небесной Серафим пришел сюда?
В миг неясный упоенья я вскричал: «Прости, мученье!
Это Бог послал забвенье о Леноре навсегда,
Пей, о, пей скорей забвенье о Леноре навсегда!»
Каркнул Ворон: «Никогда».
И вскричал я в скорби страстной: «Птица ты иль дух ужасный,
Искусителем ли послан иль грозой прибит сюда, —
Ты пророк неустрашимый! В край печальный, нелюдимый,
В край, Тоскою одержимый, ты пришел ко мне сюда!
О, скажи, найду ль забвенье, я молю, скажи, когда?»
Каркнул Ворон: «Никогда».
«Ты пророк, – вскричал я, – вещий! Птица ты иль дух зловещий,
Этим Небом, что над нами, – Богом, скрытым навсегда, —
Заклинаю, умоляя, мне сказать – в пределах Рая
Мне откроется ль святая, что средь ангелов всегда,
Та, которую Ленорой в небесах зовут всегда?»
Каркнул Ворон: «Никогда».
И воскликнул я, вставая: «Прочь отсюда, птица злая!
Ты из царства тьмы и бури, – уходи опять туда,
Не хочу я лжи позорной, лжи, как эти перья, черной,
Удались же, дух упорный! Быть хочу – один всегда!
Вынь свой жесткий клюв из сердца моего, где скорбь – всегда!»
Каркнул Ворон: «Никогда».
И сидит, сидит зловещий, Ворон черный, Ворон вещий,
С бюста бледного Паллады не умчится никуда,
Он глядит, уединенный, точно Демон полусонный,
Свет струится, тень ложится, на полу дрожит всегда,
И душа моя из тени, что волнуется всегда,
Не восстанет – никогда!