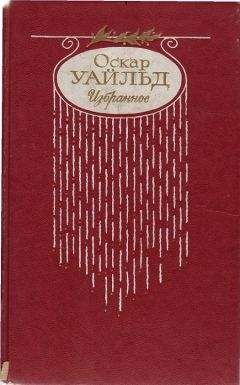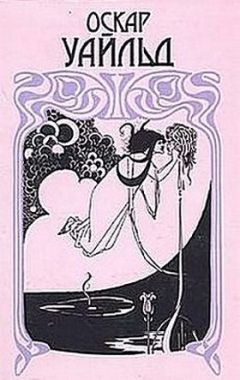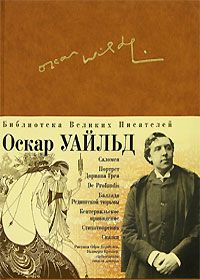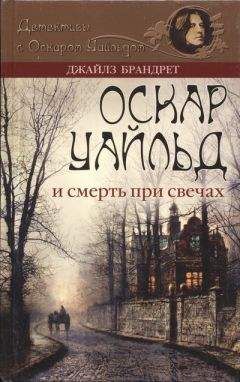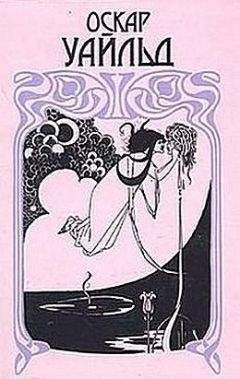II
И шесть недель гвардеец ждал,
Одет в мышиный цвет,
Легко ступал он, словно шел
На партию в крикет,
Но боль была в его глазах,
Какой не видел свет.
Но боль, какой не видел свет,
Плыла, как мгла, из глаз,
Уставленных в клочок небес,
Оставленный для нас,
То розовый и радостный,
То серый без прикрас.
Рук не ломал он, как иной
Глупец себя ведет,
Когда Отчаянье убьет
Надежды чахлый всход, —
Он тихим воздухом дышал,
Глядел на небосвод.
Рук не ломал он, не рыдал,
Не плакал ни о чем,
Но воздух пил и свет ловил
Полураскрытым ртом,
Как будто луч лился из туч
Лекарственным вином.
Мы в час прогулки на него
Смотрели, смущены,
И забывали, кем и как
Сюда заключены,
За что, насколько. Только мысль:
Его казнить должны.
Мы холодели: он идет,
Как на игру в крикет.
Мы холодели: эта боль,
Какой не видел свет.
Мы холодели: в пустоту
Ступить ему чуть свет.
В зеленых листьях дуб и вяз
Стоят весной, смеясь,
Но древо есть, где листьев несть,
И все ж, за разом раз,
Родится Плод — когда сгниет
Жизнь одного из нас.
Сынов Земли всегда влекли
Известность и успех,
Но нашумевший больше всех,
Взлетевший выше всех
Висит в петле — и на Земле
Прощен не будет Грех.
Весною пляшут на лугу
Пастушки, пастушки.
Порою флейты им поют,
Порой поют смычки.
Но кто б из нас пустился в пляс
Под пение Пеньки?
И мы дрожали за него
И в яви и во сне:
Нам жить и жить, ему — застыть
В тюремной вышине.
В какую тьму сойти ему?
В каком гореть огне?
И вот однажды не пришел
Он на тюремный двор.
Что означало: утвержден
Ужасный приговор,
Что означало: мне его
Не встретить с этих пор.
Два чёлна в бурю; две судьбы
Свел на мгновенье Рок.
Он молча шел, я рядом брел,
Но что сказать я мог?
Не в ночь святую мы сошлись,
А в день срамных тревог.
Две обреченные души —
Над нами каркнул вран.
Бог исцеляющей рукой
Не тронул наших ран.
Нас Мир изгнал, нас Грех избрал
И кинул в свой капкан.
Тут камень тверд, и воздух сперт,
И в окнах — частый прут.
Глядел в глухой мешок двора
И смерти ждал он тут,
Где неусыпно Сторожа
Жизнь Смертника блюдут
И лишь молчанье да надзор —
Единственный ответ
На исступленную мольбу,
На исступленный бред,
А на свободу умереть —
Безжалостный запрет.
Продумали до мелочей
Постыдный ритуал.
«Смерть — натуральнейшая вещь»,
Тюремный врач сказал,
И для Убийцы капеллан
Из Библии читал.
А тот курил, и пиво пил,
И пену с губ стирал,
И речь о каре и грехе
Презрением карал,
Как будто, жизнь теряя, он
Немногое терял.
Он смерти ждал. И страж гадал,
Что происходит с ним.
Но он сидел, невозмутим,
И страж — невозмутим:
Был страж по должности молчун,
По службе нелюдим.
А может, просто не нашлось
Ни сердца, ни руки,
Чтоб хоть чуть-чуть да разогнуть
Отчаянья тиски?
Но чья тоска так велика?
Чьи руки так крепки?
Оравой ряженых во двор,
Понурясь, вышли мы.
Глупа, слепа — идет толпа
Подручных Князя Тьмы.
Рукой Судьбы обриты лбы
И лезвием тюрьмы.
Мы тянем, треплем, вьем канат
И ногти в кровь дерем,
Проходим двор и коридор
С мочалом и с ведром,
Мы моем стекла, чистим жесть
И дерево скребем.
Таскаем камни и мешки —
И льется пот ручьем,
Плетем и шьем, поем псалмы,
Лудим, паяем, жжем.
В таких трудах забылся страх,
Свернулся в нас клубком.
Спал тихо Страх у нас в сердцах.
Нам было невдомек,
Что тает Срок и знает Рок,
Кого на смерть обрек.
И вдруг — могила во дворе
У самых наших ног.
Кроваво-желтым жадным ртом
Разинулась дыра.
Вопила грязь, что заждалась,
Что жертву жрать пора.
И знали мы: дождавшись тьмы,
Не станут ждать утра.
И в душах вспыхнули слова:
Страдать. Убить. Распять.
Палач прошествовал, неся
Свою простую кладь.
И каждый, заперт под замок,
Не мог не зарыдать.
В ту ночь тюрьма сошла с ума,
В ней выл и веял Страх —
Визжал в углах, пищал в щелях,
Орал на этажах
И за оконным решетом
Роился в мертвецах.
А он уснул — уснул легко,
Как путник, утомясь;
За ним следили Сторожа
И не смыкали глаз,
Дивясь, как тот рассвета ждет,
Кто ждет в последний раз.
Зато не спал, не засыпал
В ту ночь никто из нас:
Пройдох, мошенников, бродяг
Единый ужас тряс,
Тоска скребла острей сверла:
Его последний час.
О! есть ли мука тяжелей,
Чем мука о другом?
Его вина искуплена
В страдании твоем.
Из глаз твоих струится боль
Расплавленным свинцом…
Неслышно, в войлочных туфлях,
Вдоль камер крался страж
И видел, как, упав во мрак,
Молился весь этаж —
Те, чей язык давно отвык
От зова «Отче наш».
Один этаж, другой этаж —
Тюрьма звала Отца,
А коридор — как черный флер
У гроба мертвеца,
И губка с губ Его прожгла
Раскаяньем сердца.
И Серый Кочет пел во тьме,
И Красный Кочет пел —
Заря спала, тюрьма звала,
Но мрак над ней чернел,
И духам Дна сам Сатана
Ворваться к нам велел.
Они, сперва едва-едва
Видны в лучах луны,
Облиты злой могильной мглой,
Из тьмы, из глубины
Взвились, восстали, понеслись,
Бледны и зелены.
Парад гримас и выкрутас,
И танца дикий шквал,
Ужимок, поз, ухмылок, слез
Бесовский карнавал,
Аллюр чудовищных фигур,
Как ярость, нарастал.
Ужасный шаг звенел в ушах,
В сердца вселился Страх,
Плясал народ ночных урод,
Плясал и пел впотьмах,
И песнь завыл, и разбудил
Кладбищ нечистый прах:
«О! мир богат, — глумился Ад, —
Да запер все добро.
Рискни, сыграй: поставь свой рай
На Зло и на Добро!
Но шулер Грех обставит всех,
И выпадет Зеро!»
Толпу химер и эфемер
Дрожь хохота трясла.
Сам Ад явился в каземат,
Сама стихия Зла.
О кровь Христа! ведь неспроста
Забагровела мгла.
Виясь, виясь — то возле нас,
То удалясь от нас,
То в вальс изысканный пустясь,
То нагло заголясь,
Дразнили нас, казнили нас —
И пали мы, молясь.
Рассветный ветер застонал,
А ночь осталась тут,
И пряжу черную свою
Скрутила в черный жгут;
И думали, молясь: сейчас
Начнется Страшный суд!
Стеная, ветер пролетал
Над серою стеной,
Над изревевшейся тюрьмой,
Над крышкой гробовой.
О ветр! вигилии твоей
Достоин ли живой?
Но вот над койкой в три доски
Луч утра заиграл,
Узор решетчатый окна
На стенах запылал,
И знал я: где-то в мире встал
Рассвет — кровав и ал.
Мы в шесть уборкой занялись,
А в семь порядок был…
Но в коридорах шорох плыл
Зальделых белых крыл —
То Азраил из тьмы могил
За новой жертвой взмыл.
Палач пошел не в кумаче,
И в стойле спал Конь Блед;
Кусок пеньки да две доски —
И в этом весь секрет;
Но тень Стыда, на день Суда
Упав, затмила свет…
Мы шли, как те, кто в темноте
Блуждает вкривь и вкось,
Мы шли, не плача, не молясь,
Мы шли и шли, как шлось,
Но то, что умирало в нас,
Надеждою звалось.
Ведь Правосудие идет
По трупам, по живым.
Идет, не глядя вниз, идет
Путем, как смерть, прямым;
Крушит чудовищной пятой
Простертых ниц пред ним.
Мы ждали с ужасом Восьми.
Во рту — сухой песок.
Молились мы Восьми: возьми
Хоть наши жизни, Рок!
Но Рок молитвой пренебрег.
Восьмой удар — в висок.
Нам оставалось лишь одно —
Лежать и ждать конца.
Был каждый глух, и каждый дух
Был тяжелей свинца.
Безумье било в барабан —
И лопались сердца.
И пробил час, и нас затряс
Неслыханный испуг.
И в тот же миг раздался крик
И барабанный стук —
Так, прокаженного прогнав,
Трещотки слышат звук.
И мы, не видя ничего,
Увидели: крепит
Палач доску и вьет пеньку,
И вот Ошейник свит.
Взмахнет рукой, толкнет ногой —
И жертва захрипит.
Но этот крик и этот хрип
Звучат в ушах моих,
И ураганный барабан,
Затихнув, не затих:
Кто много жизней проживет,
Умрет в любой из них.