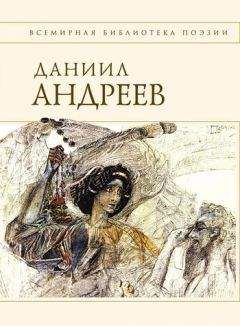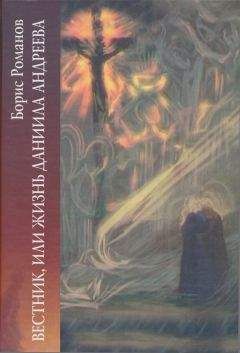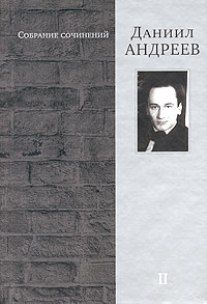126
Быть может, нынче, невской полночью,
Дух из своей ограды вышел:
В Тебе, в Тебе я странно слышал
Покой, огромный как чертог,
И там, в тумане лунно-солнечном,
Не знаю, что и чем творили
Те, кто столетьями усилий
К Тебе взойти сквозь гибель смог.
Там души гор вздымали, шествуя,
Хорал ко Храму Солнца Мира;
Там многоцветные эфиры
Простерлись, как слои морей…
Там клиры стихиалей, пестуя
Цветы лугов песнопоющих,
Смеясь, звенели в дивных кущах
Непредставимых алтарей.
И, точно в беззакатных праздниках
Незримый град России строя,
Там родомыслы и герои
Уже творили купола,
А души гениев – и праведных —
Друг другу вниз передавали
Сосуды света – дале, дале,
Все ниже, ниже – к лону зла.
О, не могу ни в тесном разуме,
Ни в чаше чувств земных вместить я,
Что сверх ума и сверх наитья
Ты дал теперь мне, как царю;
Что не словами, но алмазами
Ты начертал в кровавом небе;
О чем, как о насущном хлебе,
Теперь стихом я говорю.
Нездешней сладостью и горечью
Познанья жгучего отравлен,
Кому Российский космос явлен
Сквозь щель обрушившихся плит;
Он будет нем на шумном сборище
И полн надежд в годину страха,
Он, поднятый из тьмы и праха,
Как собеседник, в Твой Синклит.
Там, в осиянном средоточии,
Неразрушимом, недоступном,
И по блистающим уступам
Миров, готовятся пути
И строят праведные зодчие
Духовный спуск к народам мира —
Вино небесного потира
Эпохам будущим нести.
…Так душу бил озноб познания,
Слепя глаза лиловым, чермным,
И сквозь разъявшийся Infernum[4]
Уже мерцал мне новый слой —
Похожий на воспоминание
О старой жизни с прежним телом,
Как будто кто-то в белом-белом
К лицу склонялся надо мной.
Та белизна была бездушною,
Сухой, слепой, небогомольной,
И странно: стало больно-больно,
Что кончен вещий лабиринт,
Что врач склонился над подушкою,
Что всюду – белизна палаты,
А грудь сдавил, гнетя как латы,
Кровавый, плотный, душный бинт.
1949—1953
г. Владимир
Мы на завтрашний день
негодуем, и плачем, и ропщем.
Да, он крут, он кровав —
день побоищ, день бурь и суда.
Но он дверь, он ступень
между будущим братством всеобщим
И гордыней держав,
разрушающихся навсегда.
Послезавтрашний день —
точно пустоши после потопа:
Станем прочно стопой
мы на грунт этих новых веков,
И воздвигнется сень
небывалых содружеств Европы,
Всеобъемлющий строй
единящихся материков.
Но я вижу другой —
день далекий, преемственно третий,
Он ничем не замглен,
он не знает ни войн, ни разрух;
Он лазурной дугой
голубеет в исходе столетья,
И к нему устремлен,
лишь о нем пламенеет мой дух.
Прорастание сморщенных,
ныне зимующих всходов,
Теплый ветер, как май,
всякий год – и звучней, и полней…
Роза Мира! Сотворчество
всех на земле сверхнародов!
О, гряди! поспешай!
уврачуй! расцветай! пламеней!
1952
Завершается труд,
раскрывается вся панорама:
Из невиданных руд
для постройки извлек я металл,
Плиты слова, как бут,
обгранил для желанного храма,
Из отесанных груд
многотонный устой создавал.
Будет ярус другой:
в нем пространство предстанет огромней;
Будет сфера – с игрой
золотых полукруглых полос…
Камня хватит: вдали,
за излучиной каменоломни,
Блеском утра залит
непочатый гранитный колосс.
Если жизнь и покой
суждены мне в клокочущем мире,
Я надежной киркой
глыбы камня от глыб оторву,
И, невзгодам вразрез,
будет радость все шире и шире
Видеть купол и крест,
довершаемые наяву.
Мне, слепцу и рабу,
наважденья ночей расторгая,
Указуя тропу
к обретенью заоблачных прав,
Все поняв и простив,
отдала этот труд Всеблагая,
Ослепительный миф —
свет грядущего – предуказав.
Нет, не зодчим, дворцы
создающим под солнцем и ветром,
Купола и венцы
возводя в голубой окоём —
В недрах русской тюрьмы
я тружусь над таинственным метром
До рассветной каймы
в тусклооком окошке моем.
Дни скорбей и труда —
эти грузные, косные годы
Рухнут вниз, как обвал, —
уже вольные дали видны, —
Никогда, никогда
не впивал я столь дивной свободы,
Никогда не вдыхал всею грудью такой глубины!
В круг последних мытарств
я с народом безбрежным вступаю —
Миллионная нить
в глубине мирового узла…
Сквозь крушение царств
проведи до заветного края,
Ты, что можешь хранить
и листок придорожный от зла!
1950—1956
Вы, реки сонные
Да шум сосны, —
Душа бездонная
Моей страны.
Шурша султанами,
Ковыль, пырей
Спят над курганами
Богатырей;
В лесной глуши горя,
Не гаснет сказ
Про доблесть Игоря,
Про чудный Спас.
И сердцу дороги,
Как вещий сон,
Живые шорохи
Былых времен:
Над этой поймою
Костры древлян,
Осины стройные
Сырых полян,
Луна над мелями,
Дурман лугов,
В тумане медленном
Верхи стогов,
Вода текучая
Все прочь и прочь, —
Звезда падучая
В немую ночь.
1937—1950
Леший старый ли, серый волк ли —
Все хоронятся в дебрь и глушь:
Их беседы с людьми умолкли,
Не постигнуть им новых душ,
Душ, сегодня держащих власть,
Чтобы завтра уйти иль пасть.
Но меня приняла Россия
В свое внутреннее жилье;
Чую замыслы потайные
И стремленье, и страсть ее,
И звезду, что взошла в тиши
Непрочтенной ее души.
Только этой звезде покорен,
Только этой звездой богат,
Прорастание древних зёрен
И вселенский грядущий сад
Слышу в шорохе хвойных ваий,
В вольных хорах гусиных стай,
В буйной радости непогоды,
В беззаконной ее гульбе,
И в лучистых очах народа,
И в кромешной его судьбе,
И в ребятах, кто слушать рад
В век каналов про Китеж-град.
И учусь я – сквозь гул машинный,
Говор, ругань, бескрылый смех,
Шорох бабьей возни мышиной,
Спешку графиков, гам потех —
Слушать то, что еще народ
Сам в себе не осознает.
И друзей – не чванливых, грубых,
Но таких, кто мечтой богат,
Не в правленьях ищу, не в клубах
И не в теплом уюте хат,
Но в мерцании встречных глаз,
В недомолвках случайных фраз.
1950
Другие твердят о сегодняшнем дне.
Пусть! Пусть!
У каждого тлеет – там, в глубине —
Таинственнейшая грусть.
Про всенародное наше Вчера,
Про древность я говорю;
Про вечность; про эти вот вечера,
Про эту зарю;
Про вызревающее в борозде,
Взрыхленной плугом эпох,
Семя, подобное тихой звезде,
Но солнечное, как бог.
Не заговорщик я, не бандит, —
Я вестник другого дня.
А тех, кто сегодняшнему кадит, —
Достаточно без меня.
1955
Над рекою, в нелюдном предвечерии,
Кочевой уже потрескивал костер,
И туманы, голубые как поверия,
Поднимались с зарастающих озер.
Из-за мыса мелового, по излучине
Огибая отражающийся холм,
С зеленеющими ветками в уключине
Показался приближающийся челн.
И стремительно, и плавно, и таинственно
Чуть серел он в надвигающейся тьме,
И веслом не пошевеливал единственным
Сам Хозяин на изогнутой корме.
Борода иссиня-черная да волосы —
Богатырская лесная красота:
Лишь рубаха полотняная без пояса
Да штаны из домотканого холста.
Этим взором полесовщик и сокольничий
Мог бы хищную окидывать тайгу;
Этой силою двуперстие раскольничье
Утверждалось по скитам на берегу;
Этой вере, этой воле пламенеющей
Покоряются лесные божества,
И сквозь сумерки скользит он – власть имеющий,
Пастырь бора, его жрец, его глава.
И, подбрасывая сучья в пламя дикое,
Я той полночью молился тьме былой —
Вместе с нежитью лесной тысячеликою,
Вместе с горькою и чистою смолой.
1945—1950