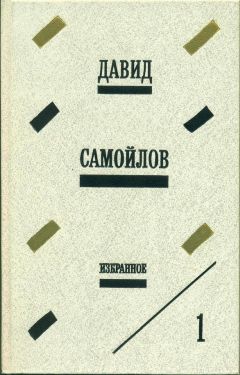Эстимаа
Здесь к городам веселой трезвой Ганзы
Приближен был высокий город Псков,
А племена, неведомы и разны,
Таились где-то в глубине лесов.
И там они хранили темный норов
Среди болотниц, лешаков и ведьм —
Неведомо когда степных угоров
До моря дотянувшаяся ветвь.
А сколько их — неведомо. И даты
Темны. Повсюду тьма, и тишь, и тьма.
Датчане, шведы, немцы, руссы, латы
Сбивали их, как масло, в Эстимаа.
Они в глуши хранили свой обычай
И свой язык, как драгоценный клад,
В котором длинных гласных щебет птичий,
Согласных — твердость камня и раскат.
Когда же сосчитали их, то горстка
Их оказалась. Но не от числа
В них проявлялось чертово упорство
Без различения добра и зла.
Пусть их теплом не баловало солнце,
Пусть ветер дул из-за прибрежных дюн.
Но сотворили родину эстонцы
Круглее и прочнее, чем валун.
«Я люблю ощущенье ушедших годов…»
Я люблю ощущенье ушедших годов
И забытых ладоней тепло.
Я снимаю со времени тайный покров,
Убеждаясь: оно утекло.
Но зачем этот сад накануне зимы,
Этот город туманный зачем
И зачем же тогда в этом городе мы,
Сочинители странных поэм?
А великое слово «зачем» — как пароль,
Произнесенный в долгих ночах.
И безумствую я, как влюбленный король,
По бессоннице и при свечах.
«И снова все светло и бренно…»
И снова все светло и бренно —
Вода, и небо, и песок,
И хрупкая морская пена,
И отплывающий челнок.
Уж не волнуют опасенья.
Отпущен конь, опущен меч.
И на любовь и на спасенье
Я не решусь себя обречь.
Высокой волей обуянный,
Пройду таинственной межой
И постучусь, пришелец странный,
К себе домой, как в дом чужой.
О бедная моя!
Ты умерла. А я
Играю под сурдину
На скрипке бытия.
И так же непреложно
Ведет меня стезя
Туда, где жить не можно
И умереть нельзя.
Я смерть свою забуду
Всего лишь оттого,
Что состояться чуду
Не стоит ничего.
Вот что-то в этом роде:
Муаровый скворец,
Поющий на природе
Гармонию сердец.
О малое созданье!
Зато он превзошел
Величье подражанья
И слабость новых школ.
Пускай поет похоже
На каждого скворца,
Ведь все созданье божье
Похоже на творца.
Надо идти все дальше,
Дальше по той дороге,
Что для нас начертали
Гении и пророки.
Надо стоять все тверже,
Надо любить все крепче,
Надо хранить все строже
Золото русской речи.
Надо смотреть все зорче,
Надо внимать все чутче,
Надо блюсти осторожней
Слабые наши души.
Лихие, жесткие морозы,
Весь воздух звонок, словно лед.
Читатель ждет уж рифмы «розы»,
Но, кажется, напрасно ждет.
Напрасно ждать и дожидаться,
Притерпливаться, ожидать
Того, что звуки повторятся
И отзовутся в нас опять.
Повторов нет! Неповторимы
Ни мы, ни ты, ни я, ни он.
Неповторимы эти зимы
И этот легкий ковкий звон,
И нимб зари округ березы,
Как вкруг апостольской главы…
Читатель ждет уж рифмы «розы»?
Ну что ж, лови ее, лови!..
Из всех печей, из всех каминов
Восходит лес курчавых дымов.
А я шагаю, плащ накинув
И шляпу до бровей надвинув.
Спешу в спасительный подвальчик,
Где быстро и неторопливо
Рыжеволосый подавальщик
Приносит пару кружек пива.
Вторая кружка для студента,
Косого дьявола из Тарту,
Который дважды выпил где-то
И починает третью кварту.
Он в сером свитре грубой вязки,
По виду — хват и забияка,
Он пьет и как-то залихватски
Разламывает шейку рака.
Он здешний завсегдатай. Дятел,
Долбящий ресторанный столик.
Он Мефистофель и приятель
Буфетчицы и судомоек.
Поклонник Фолкнера и йоги,
Буддизма и Антониони,
Он успокоится в итоге.
На ординарном эталоне.
Он не опасен. Пусть он шпарит
Двусмысленные парадоксы
И пусть себе воображает,
Что он силен в стихах и в боксе.
Мне нравится его веселость,
Как он беспечен и нахален,
И даже то, как тычет в соус
Огрызок сигареты «Таллин».
А в круглом блюде груда раков,
Пузырчатый янтарь бокала,
И туч и дымов странный ракурс
В крутом окне полуподвала.
Сандрильона ждет карету.
Чинно курит сигарету.
Ждет, чтоб прибыл сандрильонец
Из компании гуляк —
С туфелькой, на «Жигулях».
Стынет кофе. Отрешенно
Ожидает Сандрильона
Из миллиона сандрильон.
В ней не счастье, не страданье,
Все — сплошное ожиданье.
Наконец приходит он.
И, с задумчивым соседом
Не простившись, выйдет следом
За плечистым сандрильонцем
Из сапожной мастерской.
Парк осенний залит солнцем.
Осень. Небо. И покой.
И уедет Сандрильона,
С ней — волос ее корона,
Вместе с гордым модельером
На машине «Жигули»…
Высоко над морем серым
Чайки, тучи, корабли.
Можно и так. На заре
Выйти — и за садоводство,
В час, когда в алой заре
Пышное солнце печется.
Чувствовать лапой босой
Холод и влажность тропинки.
Птиц услыхать, над тобой
Пинькающих без запинки.
Можно и так. Не спеша
Ждать, чтоб глаза разлепились,
Чтобы проснулась душа,
Чтобы слова укрепились.
Как поступить? На заре,
Может быть, даже и лучше
Пальцем писать на золе
Или на утренней туче.
«Мое единственное достояние…»
Мое единственное достояние —
Русская речь.
Нет ничего дороже,
Чем фраза,
Так облегающая мысль,
Как будто это
Одно и то же.
«Сперва сирень, потом жасмин…»
Сперва сирень, потом жасмин,
Потом — благоуханье лип,
И, перемешиваясь с ним,
Наваливается залив.
Здесь масса воздуха висит
Вверху, как легкое стекло.
Но если дождь заморосит,
Земля задышит тяжело.
Залив господствует везде,
Навязывая свой накат.
Деревья держит он в узде,
Захватывает весь закат.
Он на могучем сквозняке
Лежит пологим витражом.
И отражает все в себе,
И сам повсюду отражен.
«Тебя мне память возвратила…»
Тебя мне память возвратила
Такой, какою ты была,
Когда: «Не любит!» — говорила
И слезы горькие лила.
О, как мне нужно возвращенье
Из тех невозвратимых лет,
Где и отмщенье и прощенье,
Страстей непроходящий след.
И лишь сегодня на колени
Паду. Ведь цену знаю сам
Своей любви, своей измене.
Твоей любви, твоим слезам.