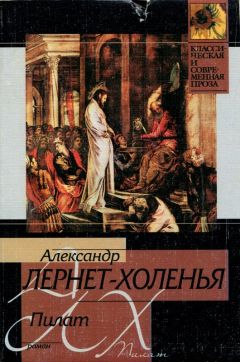СТО ПЕРВАЯ КВАРТИРА
Когда б все избы, хаты и квартиры,
Где жить пришлось, я перечислить мог,
За век войны, на всех дорогах мира,
Я насчитал бы сто один порог.
Теперь в стране чужой и невеселой,
На уличке разбитой и пустой,
Живу я в третьем доме от костела,
Заполучив мансарду на постой.
Хозяин дома, розовый колбасник,
У входа восседает до зари.
Шофер ворчит: «Да он типичный частник!
Как люди терпят, дьявол побери!»
В сто первый раз мы жизнь начнем сначала.
В сто первый раз устраивая дом,
Чтоб не испачкать мелом одеяло,
Газету над кроватью мы прибьем.
Приколем карточку, где ты смеешься,
Далекая моя. А на столе
Разложим трубки, финский нож и ложку,
Дров привезем и заживем в тепле.
Заварим добрый суп из концентрата,
И мне, в соседстве с краткой тишиной,
Покажется, что с самого Арбата
Кочует эта комната со мной.
И Лермонтов витать над нами будет.
Он был поручик — значит, лейтенант,
Хозяин удивится: «Что за люди?
Надолго ли вселил их комендант?»
Пройдет два дня, от силы три. И снова
Зайдет полковник, скажет нам: «Пора!»
Понявши с полувзгляда, с полуслова,
Поднимемся мы в пять часов утра.
Шофер выносит вещи и винтовки.
Быть может, мы сумеем кое-как
Поспеть к артиллерийской подготовке
На «виллисе», похожем на башмак.
Еще темно, и холодно, и сыро.
Железо, как огонь, горит в руке.
Прощай, моя сто первая квартира
В разбитом, невеселом городке.
1944
Я буду в Берлине иль в Вене,
От милой земли вдалеке,
Когда затемненье отменят
В зеленом твоем городке.
В вечернюю тихую пору,
Вдыхая цветочный настой,
Поднимешь ты душную штору,
Скрывавшую свет золотой.
Сквозь тысячу верст я увижу
Светящееся окно.
Чем дальше иду я, тем ближе
Сквозь тьму проступает оно.
И есть в нем чудесная сила,
Лишь сердцу понятный закон:
Оно мне и раньше светило,
Хоть город твой был затемнен.
Поверь мне — мы встретимся скоро.
Светись, золотое окно.
Разлука — как темная штора,
А свет — он горит все равно.
1944
В ДОМЕ КРОХОТНУЮ ДЕВОЧКУ...
В доме крохотную девочку
Эвой-Иолантой звали.
В темноте, не разглядев еще,
На руки ее мы брали.
Погоди. Ты только с улицы,
Зимним ветром заморожен.
Вот смотри, она простудится.
Будь с ней очень осторожен.
Лучше дай понянчу я ее, —
Так соскучился по ласке!
Голубые или карие
У твоей девчонки глазки?
От шинелей пахнет вьюгами,
Только русский говор нежен.
Смотрит девочка испуганно
На небритого жолнежа.
Наши Гали, Тани, Шурики,
Вы простите лейтенанта,
Что, задумавшись, зажмурившись,
Нянчит Эву-Иоланту.
1944
Шарит прожектор рукой раскаленной,
Мина со вздохом ударила в дом.
Улицей имени Вашингтона
К берегу Вислы, пригнувшись, идем.
Смешана гарь с известковою пылью...
Помнишь, товарищ, два года назад
Улицей Ермана мы проходили
К черному порту? Горел Сталинград.
Так и живем мы сегодня, помножив
Воспоминания на мечты.
Улицы без голосов и прохожих,
Сорванных крыш громыхают листы.
Только по небу в осенних просторах
Ходят невидимые корабли.
Ровный, размеренный рокот моторов:
Это У-2 на Варшаву пошли.
Наш «кукурузник», «сверчок», «огородник»,
Наш легендарный родной самолет
Ночью свершает свой путь благородный —
Хлеб для варшавских повстанцев везет.
Яростно бьют с Маршалковской зенитки,
Красные пули вонзаются в ночь.
Он увернется — фанерный, а прыткий, —
Сбросит что нужно. Он должен помочь.
В мертвом сиянье ракета повисла.
С черного берега бьет пулемет.
Слушайте! Кто-то плывет через Вислу.
Тише, товарищи! Кто-то плывет!
Мокрая, словно Европа из сказки,
Шаткой походкой выходит сюда
Девушка с бело-червонной повязкой,
Льется с нее ледяная вода.
Берег. Гранитная ровная кладка.
Зарево плещется в темных волнах.
Польские воины в конфедератках,
Русский разведчик в мохнатых штанах.
Девушка им предъявляет как пропуск
Пачку размокших советских галет.
Ждущая освобожденья Европа
Нашим У-2 присылает ответ.
Что говорить — мы теперь за границей,
Будет пора дипкурьеров и нот.
Это посланье в сердцах сохранится,
Всю дипломатию переживет.
Грохнул снаряд, оглушительный, грузный,
В небе мотор зажурчал, как поток...
Снова в Варшаву идет «кукурузник»,
Снова пошел на работу «сверчок».
1944
Как живете вы там, в России,
Ненаглядные, дорогие?
Там, за реками, за горами,
Как живете в разлуке с нами?
Наши матери постарели,
Наши милые повзрослели,
Горе тронуло их. Ну, что же,
Нам такие они дороже.
Руки в трещинках и занозах,
Чтобы в танках и бомбовозах
Мы почувствовали, узнали
Ими созданные детали.
Все для фронта, все для победы.
Небогаты ваши обеды,
Ваши платьица старой моды, —
Наряжаться ли в эти годы?
Голоса ваши всюду слышим
И глаза ваши всюду видим,
Хоть не часто и кратко пишем
И порою вас тем обидим.
Не сердитесь! Гремят моторы,
Задыхаясь, летят просторы,
Я пишу эти строки скоро
На крыле бронетранспортера.
Заживают старые раны,
Проплывают новые страны,
Но опять повторяют губы
Имя родины и любимой.
Мы все те же.
Мы однолюбы.
Оттого и непобедимы.
1944
В ЭТОМ ДОМИКЕ СРЕДЬ РУИН...
Нет, я вашей страны не ругаю,
Теплым ветром ее дыша.
Может быть, она не плохая
И для вас совсем хороша.
Здесь немало красивых женщин
И лукавых немало глаз,
Здесь морозы зимою меньше,
Чем в сибирских краях у нас.
Мне понравился неугомонный
Рынок в струях дождя косых,
Весь в прозрачных плащах — зеленых,
Желтых, розовых, голубых.
Так красива тоска по небу,
Что пришла из иных веков
И в костелах окаменела,
Не добравшись до облаков.
Только я, как сквозь плащ прозрачный,
Вижу деньги и нищету,
Жадный, скучный, ненастоящий
Мир, не знающий про мечту.
Мы не жалуемся на встречу:
В этом домике средь руин
Жарко дышат голландки-печи
И белы облака перин.
Можно спать на сырой соломе,
Холодать и недоедать...
Но мечту о родимом доме
На перины — как променять?
Потому в любом разговоре
Мы твердим: а у нас! у нас!
Наше счастье и наше горе
Мы не можем забыть сейчас.
Там, в далекой, милой сторонке
Жизнь — с начала и до конца.
Там, у русских березок тонких,
Остаются наши сердца.
Мы гордимся той светлой высью,
Где стоит наш советский дом.
Потому и на вашей Висле
Мы о Волге своей поем.
1944
Я не был в Германии. Я не видал никогда
Фашистское логово, злобные их города.
Но вот перекресток дорог среди польских долин.
На стрелке: пятьсот километров отсюда — Берлин.
Пятьсот километров. Расчет этот точен и прост:
Прошел я от Волги, пожалуй, две тысячи верст,
Но каждую русскую грустную помню версту —
И месть в своем сердце теперь я ношу, как мечту.
Не видел я Гамбурга, — видел Воронеж в огне;
Не видел я Франкфурта, — Киев запомнился мне.
Я нежные песни в истерзанном сердце берег,—
Вина не моя, что я стал и угрюм и жесток.
Две тысячи пройдено. Ныне осталось пятьсот,
По польским дорогам родная пехота идет.
Но в светлые очи солдатские только взгляни,
Увидишь, как светятся родины нашей огни.
Пятьсот километров на запад — последний рывок.
К Берлину направлены стрелки шоссейных дорог.
1944