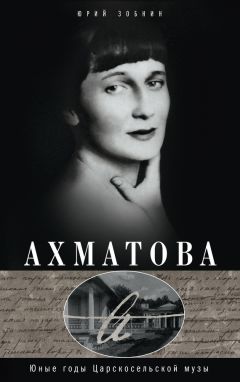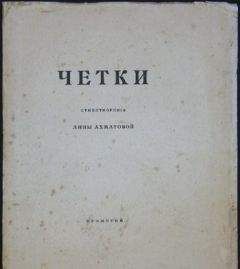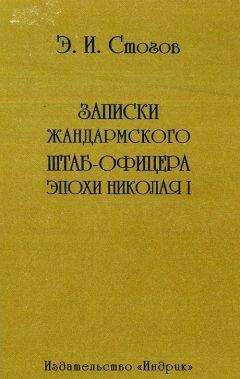Ознакомительная версия.
А истории эти были любопытные!
Сюда, в древний Херсонес Таврический, был в начале второго тысячелетия за непокорность сослан императором Траяном четвёртый папа римский Климент, любимый ученик апостола Петра. В каторжных работах, в каменоломнях, в цепях, папа Климент не угашал духа: он неутомимо проповедовал учение Христа и, по слухам, обращал ежедневно в христианскую веру множество неофитов, стекавшихся теперь к лачугам херсонесских рудокопов со всей Тавриды. На местах языческих капищ по велению каторжного папы стали воздвигаться храмы. Тогда взбешённый Траян, которому донесли о непорядках в северных провинциях, приказал привязать Климента к корабельному якорю и бросить в Херсонесскую бухту. А наутро на глазах скорбных учеников Климента Гостеприимное море, Πόντος Εὔξενος, отступило от берега на три стадии, открывая доступ к покоящимся на дне святым мощам, которые были с великими почестями вынесены на берег и сокрыты в укромной раке от свирепых римских центурионов.
Κύριε, ἐλέησον!
Добрый священник Василий, знаменитый и прославленный словом и чудесами в III в. по Р. Х., подвизался, согласно преданию, в пустынных херсонесских скалах и был за свою праведность рукоположен в епископы города. Но и тогда он не оставил свою пещеру, принимая там учеников и неофитов, просвещая и исцеляя страждущих. Не делал Василий Добрый никакой разницы между православными и язычниками, кроткими и злыми, помогая всем, без разбора, и когда прибежал к нему жестокий городской голова, πρωτεύων, единственный сын которого скончался на днях, – ни слова не говоря, пошел с протевóном в склеп, окропил тело святой водой, вознес молитву – и мальчик воскрес. А уже на следующий день городская языческая чернь, возмущённая отступничеством своего вожака, вломилась в пещеру Василия Доброго, била и ругалась над ним, затянула петлю на ногах мученика, волокла его по прибрежным осколкам и мостовым камням до рыночной площади и здесь, у высокого каменного столба, убила, бросив тело на съедение псам. Но запугать херсонесских епископов таврическим язычникам было не так-то легко: один из преемников св. Василия, св. Капитон, посрамляя малодушных и отступников, бестрепетно, с молитвой на устах вошёл в горящую печь, – и вышел невредимым.
Κύριε, ἐλέησον!
А в последнюю четверть тысячелетия, когда Свет Христов воссиял уже по всей Ойкумене, в 891 году греческие моряки, терпя крушение у мыса Фиолент, увидели на плоском камне в десяти саженях от берега грозного Георгия Победоносца, возликовали, бросились вплавь к камню святого, выбрались невидимыми и припали к его ногам. Одним мановением утихомирил Георгий послушные волны и указал морякам на прибрежную черту, повелев основать там монастырь, молиться и ждать. И, воздвигнув на Фиоленте Свято-Георгиевский монастырь, эллинские монахи и моряки сто лет покорно молились там, и ждали, ждали, ждали – вплоть до дня, когда, сияющие в сумасшедших золотых сполохах падающего в море солнца, показались на херсонесском берегу железные варяжские дружины сумасбродного киевского князя Владимира…
Κύριε, ἐλέησον!
Вернувшись на Екатерининскую из греческого храма на Слободке, ещё окутанная благоуханием ладана, замёрзшая и счастливая Ахматова бросалась к бабушке Ирине, и они вместе листали Четьи-Минеи, отыскивая жития святых, прославивших землю будущего русского Севастополя. А оказавшись на следующий год в Херсонесе, Ахматова будет бесконечно бродить по площадям и набережным мёртвого города, отыскивая среди античных руин знакомые ей по святцам места, где так высоко прозвучала когда-то христианская проповедь:
…Я искала тот столб высокий,
Что стоял когда-то у стен Херсонеса
И до которого херсониды
Дотащили святого и там убили.
………
Про всё это написано в святцах,
Показать могу – сама читала,
Как мне прабабка моя сказала…[120]
Возвращение в Царское Село – Китайское посольство – Смерть Рики – Печальное лето в Слободке Шелиховской – Рождение Виктора Горенко – Ахматова учится чтению – Лето в Севастополе – «Дача Тура» – Чудеса Херсонеса.
Ахматова в первый свой приезд в Севастополь пробыла тут у бабушки и тёток зиму и начало весны, традиционно тяжкие в петербургских широтах для лёгочных больных. В конце апреля 1896 года она вновь находилась в Царском Селе; там её детское воображение было поражено обилием китайцев в сказочных пёстрых нарядах. По тихим царскосельским улочкам прошествовал слон, покрытый золочёной попоной с кистями и погремушками, – подарок пекинского богдыхана Гуансюя. Шли торжества по случаю прибытия чрезвычайного посольства Поднебесной Империи во главе с «наместником Чжили» (премьер-министром) Ли Хунчжаном. Там, на удалённых рубежах, где некогда воевал и хозяйствовал Эразм Иванович Стогов, в 1894–1895 годах шла жестокая сухопутная и морская война между обширной, богатой и неподвижной китайской Поднебесной Империей и островной Империей Восходящего Солнца – Японией[121]. Предметом состязания были Корея и земли Манчжурии, вотчина правящей в Пекине династии Цин. В ходе войны китайские армия и флот оказались наголову разгромлены и 5 (17) апреля 1895 года в городе Симоносеки был подписан мир, означавший капитуляцию Китая. Но торжествовали японцы недолго. Уже через неделю коалиция России, Германии и Франции, созданная по инициативе российского министра финансов С. Ю. Витте, предъявила им ультиматум с требованием восстановить территориальную целостность Китая в обмен на дополнительные денежные выплаты проигравшей стороны. В итоге воинственной Японии, помимо китайских денег, достались лишь Пескадорские острова и Формоза. А миролюбивая Россия в благодарность за защиту китайских интересов в придачу к учёному слону в царскосельском Александровском зверинце получила в 1896 году в аренду под строительство южной ветки Транссибирской магистрали[122] манчжурские земли. Хитроумный Витте понимал, что обложенный огромной японской контрибуцией Китай полностью зависим от кредитов западных союзников, и действовал напористо и бесцеремонно. Двумя годами спустя был установлен полный российский контроль над тем самым Ляодунским полуостровом с незамерзающим Порт-Артуром (Люйшунем), за который, в первую очередь, и сражались отважные до наивности японцы. Последние вполне усвоили урок европейской политической диалектики и потратили всю поступившую от Китая контрибуцию на перевооружение армии и флота. А перед организаторами дипломатической «тройственной интервенции» открывались возможности, от которых захватывало дух. Вдохновлённый успехом Николай II провозгласил натиск в Восточную Азию геополитической миссией своего царствования, а в Европе заговорили о русском владыке как о новом Императоре Тихого Океана.
Чем может обернуться для России этот эффектный бросок в Приморье, никто из столичных обывателей, разумеется, не задумывался. Царскосёлы с удовольствием посещали устроенный близ Александровки китайский слоновник. Слон богдыхана танцевал и бил в колокол; жил он в одном вольере с золотистыми китайскими курочками, которые таскали зёрна из его миски. Слону это не нравилось, он гонял курочек хоботом, иногда побивая хоботом и нерадивого сторожа-татарина (но никогда не трогал его сынишку). А маленькая Рика так никогда и не вернулась в Царское Село. В отличие от старшей сестры, южный климат ей не помог: туберкулёз дал осложнение на мозг, и четырёхлетняя девочка угасала на руках тётки Анны, в её деражнянском поместье. Ахматова рассказывала своему биографу, что родители держали в секрете от неё эту смерть, но «Анна тем удивительным чутьём, каким обладают только дети, догадалась, что случилось, и впоследствии говорила, что эта смерть пролегла тенью через всё её детство» (Аманда Хейт). Листая «Малыша» Альфонса Доде, мы можем наткнуться на сцены, наверное, напоминающие то, чтó происходило в семействе Горенко в начале лета 1896 года:
На столе было только два прибора: мой и отца.
– А мама? А Жак? – спросил я с удивлением.
– Мама и Жак уехали, Даниэль. Твой брат очень болен, – сказал Эйсет непривычно мягким для него голосом.
Но, заметив, что я побледнел, он, чтобы успокоить меня, прибавил почти весело:
– Это я только так сказал – очень болен; в действительности же нам сообщили только, что он в постели. Но ведь ты знаешь свою мать? Она захотела непременно к нему поехать, и я дал ей в провожатые Жака… В общем, ничего серьёзного…
У самой же Ахматовой есть странное «детское» стихотворение, от которого почему-то продирает мороз по коже:
Мурка, не ходи, там сыч
На подушке вышит,
Мурка серый, не мурлычь,
Дедушка услышит.
Няня, не горит свеча,
И скребутся мыши.
Я боюсь того сыча,
Для чего он вышит?[123]
Ахматова начинает свой диалог со смертью очень рано, ещё до того, как начнёт писать стихи, и, вероятно, даже до того, как научится читать. К моменту профессионального литературного творчества эта постоянно ведущаяся жутковатая, но очень содержательная беседа приобретёт привычный, домашний и будничный характер. Напряжённый пафос танатологии, свойственный духовным вождям серебряного века, в первую очередь, свойственный поэтическому мировосприятию мужа, Н. С. Гумилёва, Ахматова не понимала и считала этот пафос следствием недостаточного знакомства с предметом:
Ознакомительная версия.