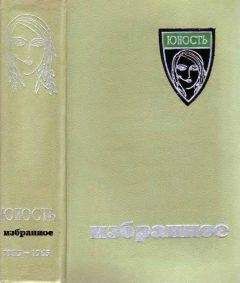Когда стемнело, он увидел то же августовское небо с падающими звездами, и в его ушах прозвучал взволнованный голос Нины: «Я тебе поверила, Дмитро. И пусть меня режут на части, я тебе верю!»
Шли годы.
Он жил, как все. Женился. Его жена была совсем не похожа на Нину.
Работа и семья, будни и праздники. Жил, как все.
Как-то под выходной жена сказала:
— Поедем завтра в Голосеевский лес.
Он нахмурился и долго молчал. Потом ответил:
— Лучше куда-нибудь в другое место.
Но сам Дмитро, в одиночку, каждый год, примерно в августе, ездит в Голосеевский лес.
Уже проложили в ту сторону троллейбусную линию. Курсируют быстрые и удобные автобусы. Но Дмитро ездит только трамваем. Тем же десятым номером до конечной остановки. А дальше пешком.
В лесу со временем все переменилось. Исчезли траншеи. Сровнялись воронки от бомб. Зазеленели молодые деревца. Над голубыми прудами шепчутся ивы.
Изменился и Дмитро. Поседели виски. Глубокие складки пролегли на лице. У глаз собрались морщинки.
Однажды, блуждая по лесу, Дмитро нашел осокорь, в теле которого торчал уже давно проржавевший, зазубренный осколок. Он хотел вытащить его и не смог.
Кора вокруг осколка затвердела толстым рубцом. Дмитро взглянул на ветвистую зеленую крону дерева. Кто знает, может, ему уже и не больно? Так вот и простоит на склоне горы весь свой осокориный век, так и упадет с куском железа в груди.
…Позванивает трамвай. В вагоне говор, шутки, смех. Горожане возвращаются после прогулки домой. А навстречу бегут другие вагоны, тоже переполненные, шумные.
Дмитро сидит у окна. Он молча вглядывается в лица входящих и выходящих и думает о том, как удивились бы они, услышав, что именно этим трамваем в тревожные августовские дни ополченцы ездили на фронт.
Авторизованный перевод с украинского А. Островского. Киев.
Из рассказов летчика-испытателя.
Когда редакция «Юности» попросила меня написать в очередной номер несколько рассказов, я не ощутил энтузиазма. Мне было ясно, что предстоят ночные бдения. Только в ночной тишине я могу отвлечься от повседневных забот. Но семя было брошено и дало какие-то всходы. После этого неизбежно встал вопрос: как и кому надлежит представить неизвестного автора читателям? В разговоре все пришли к выводу, что сделать это лучше всего мне самому. Я пытался сопротивляться, однако после непродолжительной, но дружной атаки сдался. Осталось решить еще один вопрос: о форме представления. Писать автобиографию мне не захотелось.
«Тогда заполните анкету», — шутливо сказали мне. Это выглядело куда проще, и я согласился. Мне казалось, что на анкетах-то я «набил руку».
Итак, анкета.
Фамилия — Ильюшин. Имя — Владимир. Специальность — инженер, летчик-испытатель, женат. Состою. Не имел. Не имею. Не привлекался. Не участвовал.
Самым трудным оказался вопрос специальный: как, когда и почему начал писать? Тут дать четкий и ясный ответ оказалось не так просто.
То время, когда я сознательно взял в руки перо, чтобы первый раз написать рассказ, вспоминается безо всякого удовольствия. Это было трудное для меня время.
Говоря языком авиационным, это был период «капитального ремонта моего шасси», что в переводе означает: лечение переломов ног после автомобильной аварии. Лежать в полном бездействии я не мог. Руки требовали какого-то дела, душа рвалась в воздух, а правая нога была в гипсе. Но начну с самого начала. Из разбитого автомобиля друзья, которые ехали сзади, повезли меня в ближайшую больницу. Кстати, тут в приемном покое произошел смешной случай. Видимо, даже самые драматические моменты несут в себе и элементы комического, смешного.
Меня положили на лежак прямо в одежде. Раздевать меня пришла маленькая юная санитарка. Она помогла мне снять гимнастерку. И с недоумением поглядела на мои новые сапоги.
— Режьте их, — сказал я.
— Жалко, они же новые.
— Черт с ними, ведь нога-то болтается, еще останется кусок в сапоге. Да и кровью они уже испачканы.
— Ничего, это можно отмыть, — сказала она и храбро начала стягивать сапоги.
Хорошо, что они были свободные! Мы явно не понимали друг друга.
И вот я лежу на операционном столе. Какой резкий переход! Каких-нибудь сорок минут тому назад я вернулся с высоты в двадцать восемь километров. Шум аэродрома, затем шум шоссе. Кругом движение, бурное биение жизни. И я участник этого движения. А сейчас слышны только шепот сестер, голос хирурга да позвякивание стали. Кругом все бело: халаты, шапочки, повязки на лицах, стены, потолок. Пола я не вижу. Я лежу на спине.
Чтобы не видеть, что со мной делают, я запрокидываю голову, и взгляд мой падает на окно. Мне видно только небо. Только небо! Но как много говорит оно мне! Оно сейчас очень чистое, и мне кажется, что оно звучит на очень-очень высокой ноте. Это, видимо, потому, что по нему мчится острый, как игла, белый след. И первый раз в жизни я ощутил, что смотрю на небо со стороны, иным, чем обычно, внутренним взором. Мне до боли захотелось рассказать о небе, о труде тех, кто впервые поднимает в него стремительно летающие стрелы. Это был первый импульс. Потом все отошло на второй план. На первом была борьба за небо, и вел к ее не один.
Вернулся снова к этой мысли значительно позже, когда был уже в гипсе и имел достаточно времени, чтобы вспомнить и обдумать всю свою жизнь. Но начать писать мне было не просто. Я боялся написать неинтересно и непонятно. И только настойчивые подбадривания друзей и их помощь дали мне силы взяться за перо.
Вот, пожалуй, и все.
Обычный чудесный летний день. По небу медленно ползут редкие «барашки». Тишина. Слышны только трели жаворонков. Мы с ведущим инженером идем к самолету. Каждый погружен в свои мысли. Сегодня последний полет — и программа на этом закончена. Или, как говорит ведущий: «Сегодня еще один полет — и закрываем программу».
Он считает, что в авиации не должно быть «последних» полетов. Ну что ж, я не против. Пускай еще один. Сегодня это взлет со вспаханной полосы в сверх-тяжелом весе, или, как у нас говорят, «в перегрузочном варианте». Все готово к полету. Все оговорено, просчитано, проанализировано. Все, что может и даже не может быть. Я еще и еще раз мысленно взлетаю. Вспаханную полосу я знаю почти наизусть. Много полетов с нее уже позади, и не далее как сегодня утром мы еще раз прошли по ней пешком. Хотели проехать на машине, но наш «газик» завяз, и пришлось его толкать руками. Здорово вспахали. Земля, как пух.
— Лев, — говорю я, — значит, все делаю, как договорились. Ты становишься с флагом там, где у меня должна быть контрольная точка. Как раз против вот этого кома земли. Видишь, на нем травинка с капелькой росы. Если скорость нормальная, я взлетаю; если меньше, — выключаю двигатель и останавливаюсь.
Ведущий молча кивает мне головой и легонько хлопает меня по спине. Легонько, с его точки зрения. Его имя полностью соответствует его облику и масштабам.
Я надеваю шлем, и сразу пропадают все земные звуки. Сажусь в кабину и привязываюсь. Наушники наполняются шуршащим эфиром. Запрашиваю запуск и выруливание.
И вот передо мной моя взлетная пахота. Все готово. Прошу взлет. Включаю самописцы, даю максимальные обороты двигателю, включаю форсаж. Разбег начался. Плавные покачивания сменяются убыстряющимися толчками. Все идет нормально. Сбоку мелькнула фигура с флагом. Скорость нормальная. Все быстрее и быстрее бежит назад земля, но нос самолета не поднимается. Так оно и должно быть. Нос поднимется позже, чем обычно.
Скорость растет. Невольно тяну ручку на себя, хотя она и так взята полностью. Нос не поднимается. Я начинаю понимать, что все это принимает не тот оборот, которого мы ожидали. Я даже вижу ошибку в наших рассуждениях. Но назад хода нет. Я уже не успею затормозить, если прекращу взлет: впереди забор с бетонными столбами, а за ним железнодорожная насыпь. Выход один — заставить машину взлететь! Тяну ручку на себя двумя руками. Зачем? Это не я, это инстинкт. Все, что можно было пока сделать, я уже сделал. Машина должна оторваться, я уверен в этом! Но когда?! Забор стремительно несется на меня, каждую секунду он приближается ко мне на сто метров. А самолет не хочет поднимать носа. Он как катер на волне: то облегченно рвется вперед, то зарывается передней ногой в пахоту. Забор все ближе и ближе. Чувствую, как все легче и легче толчки. Скорость уже давно больше скорости отрыва, но с опущенным носом самолет не оторвется. Забор растет на глазах. Он почти рядом. Медленно, а затем все быстрее поднимается нос — и тут же отрыв. Замираю, съеживаюсь, жду удара колесами о забор. Боковым зрением замечаю, как он проскакивает подо мной. Значит, пронесло! Левая рука отпускает ручку и привычно тянется к приборной доске. Я что-то должен сделать. Ах, да! Выключить самописцы. Надо еще записать посадку, поэтому надо экономить ленту.