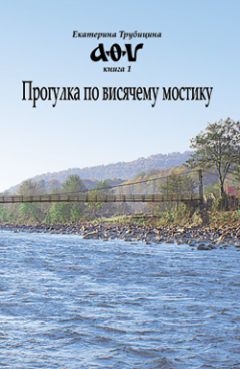КОНЕЦ ДОЖДЛИВОГО ЛЕТА
Дождливого лета последний глоток. Жестянка тумана крутой кипяток.
Зеркальный август густ и пуст. Густера в омуте ежевичный куст.
Лишь в Орегоне там кони спят и видят сны, в которых спятили все кто прежде не видел снов: о, нежные лепеты полночных сов!
Там в Орегоне ты прячешь дождь рыжих фермеров рыжая дочь.
НА ИВАНА КУПАЛА
В ночь на Ивана Купала папоротник цветет кровавыми волдырями в самый кромешный час. Как притронешься пальцем, вырастет перстенек. Лишь щекою коснешься серьги в ушах проклюнутся. Только губами приложишься, прирастет поцелуй, жди опять до июня, жги губастых парней.
ПРОЩАЛЬНЫЙ СЕКС
Прощальный секс; порожняя рыбалка в ноябре. Гляди: за шиворот реки стекает дождь. Ты скоро сядешь в проржавелый додж с отметиной свинцовой на ребре.
Очки надев, ты замшевым тяжелым пиджаком придавишь атлас лета и любви; все кажется: ищи ее, лови... мотель, на завтрак кофе с пирожком.
Замедли ход. Пересекая взмыленный Гудзон, ты различишь на дальнем берегу свою литую грудь и мой разверстый зонт. Опомнись, это я тебе реку: "Дождливый торопливый самый что ни на есть счастливый терпеливый прощальный секс".
=================================================================
конец "Песенок" =================================================================
ПО ДОРОГЕ В ВИЛЬЯМСТАУН, МАССАЧУЗЕТСС, В КАНУН ХAЛЛОУИНА
Анна, прощай, облака кружевные так неподвижны, так нежны, так снежны. Катит авто по шоссе. Заводные тетки-фигурки торгуют осеннею снедью: яблочным соком, кленовым сиропом, грудами тыкв со складками губ расторопных.
Мария, прощай, белотелая речка сваи моста обнимает, стреножа. Красного деревца тене-овечка перебегает, обоченный дрем растревожа и лобовое стекло застивая листвой тонкорунной, на асфальте на миг застывая.
Анна-Мария, прощай, но согласно ритмам осенним в садах опадают яблоки. Мы, откусив от соблазна, вдаль отшвырнули, вдогонку трепещущей стае. Только ведь плод, недоеденный нами словно опавшие, в марте вздохнет семенами.
ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПРОЗОРИЙ
В Карвилле, штат Луизиана, находится
последний в США лепрозорий.
В Луизиане злые зиянья в старой ограде, старой отраде снова предаться, только предатель подлый костыль ускользнул и в кусты: плевы зеленой пронзает листы.
Вслед вереница, зверские лица, настежь суставы, раньше составы их привозили в железных вагонах и выпускали в чрево загона для прокаженных тел искаженных.
Раньше креольский гордый аграрий дев волооких безудержно грабил в парке гниющем, сладостно гнущем шеи лианов, шомполом в анус рабы наградили слепую гордыню.
В бывшей усадьбе уроды плясали каждую пятницу по расписанью и заглушали тоску по родным треском костыльным и скрипом стальным, и бормотал граммофон прокаженный танго и блюзы для стрекоженных.
Джонни влюбился в беспалую Мэри, три орхидеи, пахнущих морем, ночью пробравшись, выкрал из сада, и подарил ей, только досада тянется к стеблям ослепшая кисть, буйная скачка всему вопреки.
Кривенький Гомес жалобный гомик смотрит на Педро, зыбкие бедра гладит и катит трон инвалидный в лапы заката в объятия ливня, только бы ночь их окутала снова, дьявольский нос и конечности псовы.
Ночью запреты, мечты и секреты тянутся к лазу, черному глазу старой ограды, старой отрады, нощной награды за обреченность, за облученность болью вселенской, красные ленты, на катерах веселятся клиенты, им не видать как выходят на берег леприки, коих закон уберег.
Пой Миссисипи голосом сиплым, мчи к океану всхлип окаянный, Педро и Джонни Гомес и Мэри руки разжали, страсти умерив; вырвать ключицы, хватит лечиться, прыгнуть в пучину и рыбой забиться! Это последний храм прокаженных, божьей любовью навек обожженных.
ФРЯЗИНО
Бывают ночи: только лягу
В Россию поплывет кровать
Владимир Набоков (Сирин)
На пруду, расписанном тонкой тиной, на плоту, привязанном к тени вяза, мы встречали полдень в солнечных стенах, убежав на волю, ослушавшись их наказа.
Нам в глаза глядели женственные тритоны, черным шелком гладили ледяные их гребни, красной крапиной нас увлекали в илистые притоны, где коряги черные бедра на солнце грели.
Мне рассказывали фрязинские хулиганы, удержавшись от искуса и на плоту удержав друг друга, -про любовь, привычки ее, крылатые сарафаны, как проходит она бульварами, -- чистая радуга.
Как потом колышутся вслед полоумные вязы, и как полдень июльский протяжно долог, а они рукавами грязными утирают слезы, а они кулаками пыльными утоляют голод.
Эти сны заползают в ухо всегда под утро. И кровать уплывает вспять, потеряв опору. И плот развергнется вот-вот хулиганы мои упадут, родиной обернувшись, корягою красноперой.
ХОР ПОД ТАЛЬЯНКУ
"Ты Бога моего не признаешь!" -Меня любила и корила итальянка. Ей было невдомек, что пела на душе тальянка о тополях пирамидальных под Пролетарском, где солончаки белее снега и хмелее стяга, на тулке я наяривал, стиляга. И овцы блеяли в кошарах.
Мне подпевал нестройный русский хор, еврейского признавший гармониста. Поленья углились, и дальних гор мониста прокатывались по степи, шуршали, на сковородке окуни шипели, а по воде ходили водомерки, качались камышинки-богомолки, девочки про стрежень голосили.
"Теперь ты поняла, кто есть мой Бог?" Она жевала пряди, как лакрицы, и грудь ее не в силах накрениться постель нам освещала. Прости же. Мне, изгою, как в раю с тобой живется, средиземная царица. И на тальянке, русской или римской я песни старые играю.
ЧЕРНЫЕ ШАРЫ
Где женщина, оскалив апельсин, мне скармливала дружбу вечерами, там дерево забвенья: ослепин теперь размахивает черными шарами.