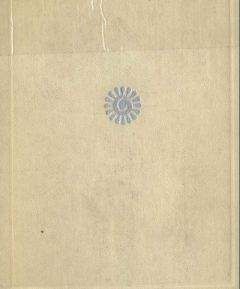«Длинный путь. Он много крови выпил…»
Длинный путь. Он много крови выпил.
О, как мы любили горячо —
В виселиц качающемся скрипе
И у стен с отбитым кирпичом.
Этого мы не расскажем детям,
Вырастут и сами все поймут,
Спросят нас, но губы не ответят
И глаза улыбки не найдут.
Показав им, как земля богата,
Кто-нибудь ответит им за нас:
«Дети мира, с вас не спросят платы,
Кровью все откуплено сполна».
«Не заглушить, не вытоптать года…»
Не заглушить, не вытоптать года,—
Стучал топор над необъятным срубом,
И вечностью каленая вода
Вдруг обожгла запекшиеся губы.
Владеть крылами ветер научил,
Пожар шумел и делал кровь янтарной,
И брагой темной путников в ночи
Земля поила благодарно.
И вот под небом, дрогнувшим тогда,
Открылось в диком и простом убранстве,
Что в каждом взоре пенится звезда
И с каждым шагом ширится пространство,
Не простые чайки по волне залетели,
Забежали невиданные шнявы,
Как полночному солнцу иволги пели,
Слушал камень лютый да травы.
Расселись гости, закачали стаканы,
С зеленой водой пекут прибаутки,
Кроют блины ледяной сметаной,
Крепкие крутят самокрутки.
Чудят про свой город; гора не город,
Все народы толкутся в нем год целый,
Моржей тяжелей мужи поморы,
В смоленом кулаке держат дело.
— А у нас валуны как пестрые хаты,
Заходи-ка, чужак, в леса спозаранья,
Что отметин на елях понаставил сохатый,
Что скрипу чудного от крыла от фазанья.
Хохочет кожаный шкипер, румяный, манит:
— Ну, заморского зелья, ну, раз единый,
Стеклянная кровь ходуном в нем нынче
мурманит,
В собачьем глазу его тают льдины.
Руку жмет, гудят кости, что гусли,
Лает ласково в дым и ветер.
— Лондон, Лондон — Русь моя, Русь ли?
В ушкуйницу мать — ушкуйники дети.
Расплылся помор, лапу тычет вправо,
Колючебородый, с тюленьей развалкой старик:
— А вон там, пес ты божий, глянь через
камень и травы,
Москва-мать, ходу десять недель напрямик.
«Потным штыком банку пробил…»
Потным штыком банку пробил,
Зажевали губы желтое сало,
Он себя и землю любил,
И ему показалось мало.
От моря до моря крестил дороги,
Желтое сало — как желтый сон,
А запаивал банку такой же двуногий,
Такой же не злой и рябой, как он.
Галдели бабы: зайди, пригожий!
Ворчали деды: погоди, погоди!
От моря до моря все было то же.
Как ты ни пробуй, как ни ходи.
Язык по жестянке жадно бегал,
Не знает консервный заморский слуга,
Как можно любить эти комья снега,
Кривые цветы на колючих лугах.
А ударит буря или сабля положит,
Покатится банка, за ней — голова.
Ну, как рассказать, что всего дороже
Живая, впитавшая кровь трава.
«Еще в небе предутреннем и горбатом…»
Еще в небе предутреннем и горбатом
Тучи горят в пустынях ночных.
Самой последней и злою платой
Я откупил силу рук твоих.
Люди легли, как к саням собаки,
В плотно захлестнутые гужи,—
Если ты любишь землю во мраке
Больше, чем звезды, — встань и скажи.
Песню наладим, как ладят шхуну,
Встретим сосну — улыбнись, пойму,
Песенным ветром на камни дуну —
И камни встанут по одному.
Отчего и на глине и на алмазе
Рука твое имя всегда найдет?
Ветка курчавая знает разве,
К солнцу какому она растет?
Они верили в то, что радость — птица,
И радость била большим крылом,
Под ногами крутилась черной лисицей,
Вставала кустами, ложилась льдом.
Лед пылью слепящей, сухой и колкой
Этот снившийся путь не во сне, не во сне
окружил —
Так плечо о плечо, — а навстречу сугробы и елки,
А навстречу сторожка у сосновой бежит межи.
Кто войдет в нее — сам приготовит ужин,
Разбуянит огонь и уж больше ночей не спит,
И кровь его смешана с ветром, с вьюжной
тяжелой стужей,
Долгою зимнею песней неудержимо стучит.
Ночная земля осыпана снегом и хмелем,
Мы отданы ей, мы земному верны мятежу —
В расплавленной солнцами Венесуэле
Пальмовым людям когда-нибудь все расскажу:
О сердцах, о глазах, больших и тревожных,
О крае моем, где только зима, зима,
О воде, что, как радость земную можно
Синими кусками набить в карман.
И люди поверят и будут рады,
Как сказкам, поверят ледяным глазам.
Но за все рудники, стада, поля, водопады
Твое имя простое я не отдам.
«Разве жить без русского простора…»
Разве жить без русского простора
Небу с позолоченной резьбой?
Надо мной, как над студеным бором,
Птичий трепет — облаков прибой.
И лежит в руках моих суглинок
Изначальный, необманный знак —
У колодцев, теплых стен овина
Просит счастья полевой батрак.
Выпашет он легшие на роздых
Из земной спокойной черноты,
Жестяные, согнутые звезды,
Темные иконы и кресты.
Зыбь бежала, пала, онемела,
А душа взыграла о другом,
И гайтан на шее загорелой
Перехвачен песенным узлом.
Земляной, последней, неминучей
Послужу я силе круговой —
Где ж греметь и сталкиваться тучам,
Если не над нашей головой?
«Я одержимый дикарь, я гол…»
Я одержимый дикарь, я гол.
Скалой меловою блестит балкон.
К Тучкову мосту шхуну привел
Седой чудак Стивенсон.
И лет ему нынче двадцать пять,
Он новый придумал рассказ —
Ночь отменена, и Земля опять
Ясна, как морской приказ.
Пуля дум-дум, стрела, динамит
Ловили душу мою в боях,
И смеялась она, а сегодня дрожит
Болью о кораблях.
Но я такой — не молод, не сед,—
И шхуне, что в душу вросла,
Я не могу прочертить ответ
Соленым концом весла.
Пусть уходит в моря, в золото, в лак
Вонзать в китов острогу,
Я сердце свое, как боксер — кулак,
Для боя в степях берегу.
Кустарник стоял. Поредели сосны.
На неожиданном краю земли
Лежала лодка в золотых осколках
Последнего разбившегося солнца.
Ни голоса, ни следа, ни тропы —
Кривая лодка и блестевший лед.
Как будто небо под ноги легло,
Лед звал вперед, сиял и улыбался
Большими белыми глазами — лед!
Он легким был, он крепким был, как мы,
И мы пошли, и мы ушли б, но лодка —
Она лежала строго на боку,
Вечерние погнувшиеся доски
Нам говорили: «Здесь конец земли».
За черным мысом вспыхнуло сиянье,
И золото в свинец перелилось.
Ты написала на холодной льдине —
Не помню я, и лед и небеса
Не помнят тоже, что ты написала,—
Теперь та льдина в море, далеко
Плывет и дышит глубоко и тихо,
Как этот вечер в золотых осколках
Плывет в груди…