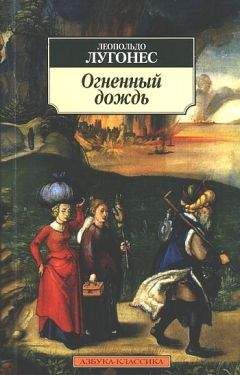В «Одах в честь столетия» греза о «другом» вела Лугонеса только к одной музе — Каллиопе, музе эпической поэзии. И стихи в книге, несмотря на постоянно проявляющуюся «задушевность», звучат, конечно, в полном соответствии с ее названием. А победу на полях сражений тогдашней аргентинской литературы он своими патриотическими одами одержал безусловную — сравниться с ним из поэтов-соотечественников не смог никто[29].
Стихотворные сборники, изданные Леопольдо Лугонесом впоследствии, по своей интонации совсем иные, чем «Оды в честь столетия». Это — «Книга веры» («El libro fiel»; 1912), «Книга пейзажей» («El libro de los paisajes»; 1917), «Золотое время» («Las horas doradas»; 1922), «Романсеро» («Romancero»; 1924), «Стихи родового гнезда» («Poemas solariegos»; 1928). Теперь, как и в первых книгах, Лугонес — лирический поэт, служитель музы Евтерпы. Правда (и это видно невооруженным взглядом), его новые сборники в целом резко отличаются от прежних. Нет, стих не утратил музыкальности и красочности (см., например, стихотворение «Уже…»), но лишился барочной метафоричности, стал едва ли не аскетично простым[30]. («В родстве со всем, что есть, уверясь, // И знаясь с будущим в быту, // Нельзя не впасть к концу, как в ересь, // В неслыханную простоту», — писал Борис Пастернак.) Многоречивый в ранних стихах, Леопольдо Лугонес отныне скуп на слова. Весомость, значимость поэтического слова увеличились. Все большее место в лугонесовских книгах стали занимать миниатюры: четверостишия, а то и двустишия[31].
У Лугонеса всегда было пантеистическое отношение к природе. Вот выдержанное безусловно в «модернистском духе» стихотворение «В минуту покоя» — из сборника «Золотое время»:
Затихший мир засыпает.
И тополь зеленой кроной
небесную синь заслоняет.
Он жаждет — ввысь устремленный,
свободный, обретший сознанье —
прозреть красоту мирозданья
в лазурном окне небосклона.
Но аргентинский поэт не ограничился «лазурным окном небосклона». Он стал находить красоту повсюду: и в незамысловатой песне лесной пичуги, и в каплях дождя, и в полевом цветке, и в обыденных мелочах жизни. Вспомним слова Борхеса: он «с кропотливой любовью глянул на каждую травинку и птицу…». Нет сомнения, Лугонес всматривается и вслушивается в окружающий мир, словно ребенок, для которого все в нем — внове. Собственно говоря, поэт (в идеале) таким и должен быть.
Ты — счастлив. Видишь, словно бы впервые,
и синь воды, и синий небосвод…
Это — строки из стихотворения «Очарование», которое включено Лугонесом в «Книгу пейзажей». Вся книга — признание поэта в любви к родной земле. Признание сокровенное, долгие годы таимое в душе и вот теперь высказанное вслух. Возможно, с некоторым смущением: ведь признается-то он в любви публично… Таких лирических стихов аргентинские поэты до Лугонеса еще не создавали.
Своей интонацией, мотивами, образами «Книга пейзажей» во многом напоминает сборник испанского поэта Антонио Мачадо «Одиночества, галереи и другие стихотворения» (1907). У обоих поэтов общий учитель, «сын Америки и внук Испании» — Рубен Дарио. Но главное: они одинаково смотрят на мир. Их пейзажные зарисовки мастерски детализированы, импрессионистичны, иногда окрашены «светлой печалью». Сад, кусты роз, ветер в листве деревьев, весенний либо осенний вечер, лунный свет, дорога, ведущая неизвестно куда… Хорошо идти в одиночестве — мечтая, размышляя; лучше, конечно, вдвоем с любимой… Совпадения подчас даже удивляют.
У Лугонеса — концовка стихотворения «Осенняя отрада»:
В чаше фонтана устало
плещет вода, засыпая.
У Мачадо — концовка стихотворения «Солнце — огонь неистовый…»:
Вечер и сад. Как тихо!
И чуть слышно вода журчит.
Звучащий фонтан и у испанца, и у аргентинца — символ времени. И оба поэта ведут со временем тихий и неторопливый разговор. Родственные души, они — «в родстве со всем, что есть». Но есть у Леопольдо Лугонеса символ-образ, который у Антонио Мачадо не встречается ни в одной из книг:
Молчащий фонтан похож
на мраморное надгробье.
Почему появился этот образ? Предчувствие личной трагедии?
В двадцатые годы Леопольдо Лугонес — главный поэт Аргентины, классик, мэтр. Он не скрывал своих амбиций, он хотел быть главным и вот — добился этого. В тогдашней «Антологии современной аргентинской поэзии», изданной Хулио Ноэ, Лугонесу было отдано шестьдесят шесть страниц; остальным тридцати поэтам пришлось довольствоваться сто двадцать одной страницей. Конечно же, «этим остальным» было обидно, но время подтвердило: всем было воздано по справедливости.
В 1928 году Лугонеса избрали председателем только что созданного Общества аргентинских писателей.
Литературной работой интересы Леопольдо Лугонеса не исчерпывались. Он был президентом Национального совета по образованию, представлял Аргентину в Комиссии Лиги Наций по интеллектуальному сотрудничеству. Много времени Лугонес всегда — и особенно в последнее десятилетие своей жизни — отдавал политической борьбе. При этом его политические взгляды менялись кардинальнейшим образом. Поначалу он был бунтарем-анархистом и социалистом, затем — демократом и либералом, позже — сторонником крайнего национализма и «сильной власти». Вот уж поистине: «полное несходство взглядов».
К сожалению, политических «переломов» (словечко Борхеса) в жизни Лугонеса — как, впрочем, и в истории Аргентины — было действительно в переизбытке. И они вряд ли обогатили его творчество. Политика была не самой удачной маской из тех, что примерял на себя Леопольдо Лугонес. Все тот же Хорхе Луис справедливо заметил: «Он подлинный вне этих политических личин»[32].
Что за бес искушал писателя?
Когда в сентябре 1930 года в результате государственного переворота президентом страны стал генерал Урибуру[33], Леопольдо Лугонес поспешил войти в его ближайшее окружение. Группа офицеров выразила генералу-президенту недовольство тем, что тот приблизил к себе «штафирку» Лугонеса; на это Урибуру ответил с усмешкой: «Не волнуйтесь. Он здесь только для того, чтобы писать за меня». Лугонес не мог не сознавать, каково к нему истинное отношение правителей страны. Самолюбие его, конечно, было уязвлено. Но полагая, что он делает это во благо Аргентине, официально признанный «национальным гением» Леопольдо Лугонес еженедельно, словно прилежный ученик, писал статьи, в которых воспевал грядущую Эру Меча. (Эти статьи Борхес называл жалкими, но вспомним слова из некролога: «При жизни о Лугонесе судили по последней мимолетной статье, которую позволяло себе его перо. Теперь он обладает всеми правами умерших, и судить о нем нужно по лучшему из написанного».)
Тончайший лирик и громогласный апологет военной диктатуры, — как они уживались в одном человеке? Вопрос, увы, уже абсолютно риторический. До поры до времени как-то уживались.
Но настал роковой для Лугонеса день. 18 февраля 1938 года он приехал на поезде в северо-восточный пригород Буэнос-Айреса Тигре и там, в гостинице «Эль-Тропесон», свел счеты с жизнью.
Перед смертью поэт написал письмо: «Прошу, чтобы меня похоронили в земле, без гроба, без какого-либо знака или упоминания обо мне. Запрещаю называть моим именем общественные места[34]. Никого ни в чем не виню. Ответственность за все лежит только на мне, на моих поступках»[35].
Никаких объяснений, почему добровольно уходит из жизни…
Для всех, кто знал Леопольдо Лугонеса, его самоубийство стало полнейшей неожиданностью. Лугонес был человеком скрытным, не склонным распахивать перед кем-либо свою душу — все, что он хотел бы сказать людям, он переносил на бумагу, преобразовывал в стихи. Может быть, иссяк талант поэта? Все-таки ему было уже шестьдесят три. Но, хотя поэзия, несомненно, — дело молодых, Лугонес как поэт не исчерпал себя и в тридцатые годы. Свидетельство тому — книга «Романсы Рио-Секо» («Romances del Río Seco»), вышедшая в 1938 году вскоре после смерти автора. Может быть, он совершил какой-либо «некрасивый» поступок? Но что же должен был сделать литератор, чтобы вынести самому себе смертный приговор?.. Хотя Лугонес и писал постоянно о смерти, он был, как утверждают его друзья, жизнелюбом. Психическими расстройствами поэт не страдал… С невыносимой для себя ясностью понял: для власть имущих он — «полезный дурак» и не более? Или, может, в какой-то момент он остро осознал (если воспользоваться пушкинскими словами): «Служенье муз не терпит суеты»? Что же гадать? — тайна самоубийства великого аргентинца до сих пор не раскрыта. Определенно можно сказать только одно: с собой Лугонес покончил не в состоянии аффекта.
Перуанский поэт-модернист Хосе Сантос Чокано (1875–1934) написал в конце жизни стихотворение «Ностальгия»: