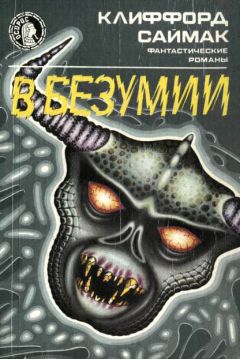Ознакомительная версия.
Я оставила знаки на этой стене:
Синева,
киноварь
и кусок желтой меди
Чтоб узнали когда-нибудь вы обо мне
И в безумии жить, и в преддверии смерти.
Мы пришли к вам с веселой косматой Звезды.
Космолет наш покрылся окалиной ржавой.
Мы не ведали, что доведем до беды
Всемогущую, древнюю эту державу.
Что плохого творили? Дарили огонь.
Календарь объяснили и карту чертили…
Но на пульт управленья упала ладонь:
Взлет, родные!.. Недолго у вас погостили.
Вы казнили публично нас на площадях.
Вы сжигали, танцуя, вселенские книги.
Вы брели к космолету, в снегах и дождях
Пронеся окаянные ваши вериги!
Вы каменья бросали в округлую твердь!
И корабль загудел клепкой кованой стали!..
На Звезде мы не знали,
что есть в мире смерть.
О, спасибо вам — мы это чудо узнали.
И, пока космолет содрогался в огне,
Собираясь обратно в небесные сферы,
Я оставила знаки на грязной стене
Молоком и овчиной пропахшей пещеры.
Чтобы поняли те, кто заглянет сюда,
И в безумии жить, и в преддверии смерти
Что Бессмертие есть
и пребудет всегда:
Синева,
киноварь
и кусок желтой меди.
Ветер серое небо качает.
Вьется вьюжное веретено.
И латунный фонарь освещает
Площадь. А в подворотнях — темно.
Пахнут постной селедкой афиши.
У Луны — азиатская стать.
Космы свесили белые крыши,
Как в товарном — солдатская мать…
Все толпятся у «Иллюзиона»,
Все желают теперь посмотреть,
Как во тьме, где рыданья и стоны,
После Взрыва мы будем гореть.
Разве может про это
искусство?!
«Все мы смертники, — думаю я.
Только пусть так же снег валит густо
За чугунным крестом бытия.
Пусть — над свежей отцовой могилой,
Что затеряна в гулких полях,
Снег встает живописною силой,
Обращая страданье во прах…
Пусть летит на румяные лица
Почернеть им не скоро дано,
В перекрестья, в проулки столицы,
Где за стеклами — елки, вино!
Эти жесткие зимние звезды,
Этот Космос, где холодно нам,
Чистым снегом, суровым и грозным,
Пусть нас бьет по щекам и губам!
Мы живые. Живые. Живые!
Губы кутай
в дырявый платок!
…А восстанут столбы огневые,
Опрокинется
звездный лоток
Всей гражданской слепой обороной,
Изучаемой присно и встарь,
Белым пламенем Иллюзиона,
Где глядели в экран,
как в алтарь,
Криком девочки в затхлом подвале,
Факелами горящих ступней
Встанет все, что мы Жизнью назвали,
Перед тем, как проститься нам с ней».
…Подлетаем к седому Нептуну.
Вот он, новый, неведомый мир.
Облака — атмосферные руны!
Он синеет в ночи, как сапфир!..
По нему полосами — узоры,
Ветви, молнии, блики, круги
Будто песни незримого хора
В январе, когда ночью — ни зги…
Мы все дальше от Солнца уходим!
Вот оно — тусклой лампы язык
В придорожном кафе, в непогоде,
Где над кружкою плачет старик…
Ходят по небу звезды!
И хором,
И сиротским нам хором кричат:
Будь в парче ты царем или вором,
Все равно не вернешься назад!
Пусть Нептун по орбите проходит
Год земной
хоть за тысячу лет,
Ты — на Площади в зимнем народе,
И тебе утешения нет.
Гола была пустыня и суха.
И черный ветер с Севера катился.
И тучи поднимались, как меха.
И холод из небесной чаши лился.
Я мерз. Я в шкуру завернулся весь.
Обветренный свой лик я вскинул в небо.
Пока не умер я. Пока я здесь.
Под тяжестью одежд — лепешка хлеба.
А черный ветер шкуры туч метал…
Над сохлой коркой выжженной пустыни
Блеснул во тьме пылающий металл!
Такого я не видывал доныне.
Я испугался. Поднялись власы.
Спина покрылась вся зернистым потом.
Земля качалась, словно бы весы.
А я следил за варварским полетом!
Дрожал. Во тьме ветров узрел едва
На диске металлическом, кострами
В ночи горя, живые существа
Смеялись или плакали над нами!
Огромный человек глядел в меня.
А справа — лев лучами выгнул гриву.
А там сидел орел — язык огня.
А слева — бык, безумный и красивый.
Они глядели молча. Я узрел,
Что, как колеса, крылья их ходили.
И ветер в тех колесах засвистел!
И свет пошел от облученной пыли!
Ободья были высоки, страшны
И были полны глаз! Я помолился
Не помогло. Круглее живота Луны,
Горячий диск из туч ко мне катился!
Глаза мигали! Усмехался рот!
Гудел и рвался воздух раскаленный!
И я стоял и мыслил, ослепленный:
Что, если он сейчас меня возьмет?
И он спустился — глыбою огня.
Меня сиянье радугой схватило.
И голос был:
— Зри и услышь меня
Чтоб не на жизнь, а на века хватило.
Я буду гордо говорить с тобой.
Запоминай — слова, как та лепешка,
В какую ты вцепился под полой,
Какую съешь, губами все до крошки
С ладони подобрав… Но съешь сперва,
Что дам тебе.
Допрежь смертей и пыток
Рука простерлась, яростна, жива.
А в ней — сухой пергамент, мертвый свиток.
Исписан был с изнанки и с лица.
И прочитал я: «ПЛАЧ, И СТОН, И ГОРЕ».
Что, Мертвое опять увижу море?!
Я не избегну своего конца,
То знаю! Но зачем опять — о муке?
Избави мя от страха и стыда.
Я поцелуями украсить руки
Возлюбленной хочу! Ее уста
Устами заклеймить!.. Я помню, Боже,
Что смертен я, что смертна и она.
Зачем Ты начертал на бычьей коже
О скорби человечьей письмена?!
Гром загремел, В округлом медном шлеме
Пришелец тяжко на песок ступил.
«Ты зверь еще. Ты проклинаешь Время.
Ты счастье в лавке за обол купил.
Вы, люди, убиваете друг друга.
Земля сухая впитывает кровь!
От тулова единого мне руки
Протянуты — насилье и любовь.
Хрипишь, врага ломая, нож — под ребра.
И потным животом рабыню мнешь.
На злые звезды щуришься недобро.
На кремне точишь — снова — ржавый нож!..
Се человек! Я думал, вы другие.
Там, в небесах, когда сюда летел…
А вы лежите здесь в крови, нагие,
Хоть генофонд один у наших тел!
Я вычислял прогноз:
планета гнева,
Планета горя, боли и тоски.
О, где равновеликие
о, где вы!
Сжимаю шлемом гулкие виски.
Язычники, отребье обезьяны,
Я так люблю, беспомощные, вас,
Дерущихся, слепых, поющих, пьяных,
Глядящих морем просоленных глаз,
Орущих в родах кротких перед смертью
С улыбками посмертных чистых лиц,
И тянущих из моря рыбу — сетью,
И пред кумиром падающих ниц.
В вас — в каждом — есть такая зверья сила,
Ни ядом ни мечом не истребить.
Хоть мать меня небесная носила,
Хочу жену земную полюбить.
Хочу войти в горячечное лоно,
Исторгнув свет, во тьме звезду зачать,
Допрежь рыданий, прежде воплей, стонов,
Поставить яркой Радости печать.
Воздам сполна за ваши злодеянья,
Огнем Содомы ваши поражу,
Но посреди звериного страданья
От самой светлой радости дрожу:
Мужчиной — бить.
И женщиной — томиться.
Плодом — буравить клещи жарких чресл.
Ребенком — от усталости валиться
Среди игры.
Быть старцем, что воскрес
От летаргии.
И старухой в черном,
С чахоткою меж высохших грудей,
Что в пальцах мелет костяные четки,
Считая, сколько лет осталось ей.
И ветошью обвязанным солдатом,
Чья ругань запеклась в проеме уст.
И прокаженным нищим.
И богатым,
Чей дом назавтра будет гол и пуст.
И выбежит на ветер он палящий,
Под ливни разрушенья и огня,
И закричит, что мир ненастоящий,
И проклянет небесного меня.
Но я люблю вас!
Я люблю вас, люди!
Тебя, о человек Езекииль.
Я улечу. Меня уже не будет,
А только обо мне пребудет быль.
Еще хлебнете мерзости и мрака,
Еще летит по ветру мертвый пух,
Но волком станет дикая собака
И арфу будет обнимать пастух.
И к звездной красоте лицо поднимешь,
По жизни плача, странной и чужой,
И камень как любимую обнимешь,
Поскольку камень наделен душой.
И бабье имя дашь звезде лиловой,
Поскольку в мире все оживлено
Сверкающим веселым горьким Словом,
Да будет от меня тебе оно!
Не даром — а лепешкой подгорелой,
Тем штопанным застиранным тряпьем,
Которым укрывал нагое тело
В пожизненном страдании своем».
…И встал огонь
ночь до краев наполнил!
И полетел с небес горячий град!
Я, голову задрав, себя не помнил.
Меж мной и небом не было преград.
Жужжали звезды в волосах жуками.
Планеты сладким молоком текли.
Но дальше, дальше уходило пламя
Спиралодиска — с высохшей земли.
И я упал.
Сухой живот пустыни
Живот ожег мне твердой пустотой.
Звенела ночь.
Я был один отныне.
Сам себе царь
и сам себе святой.
Сам себе Бог
и сам себе держава.
Сам себе счастье.
Сам себе беда.
И я заплакал ненасытно,
жадно,
О том, чего не будет
никогда.
Ознакомительная версия.