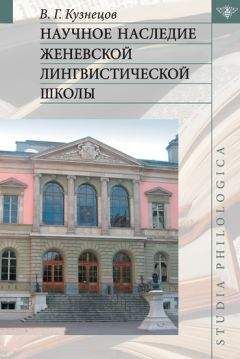Марине Баранович
* * *
Ты, молодая, длинноногая! С таким
На диво слаженным, крылатым телом!
Как трудно ты влачишь и неумело
Свой дух, оторопелый от тоски!
О, мне знакома эта поступь духа
Сквозь вихри ночи и провалы льдин,
И этот голос, восходящий глухо
Бог знает из каких живых глубин.
Я помню мрак таких же светлых глаз.
Как при тебе, все голоса стихали,
Когда она, безумствуя стихами,
Своим беспамятством воспламеняла нас.
Как странно мне её напоминаешь ты!
Такая ж розоватость, золотистость
И перламутровость лица, и шелковистость,
Такое же биенье теплоты...
И тот же холод хитрости змеиной
И скользкости... Но я простила ей!
И я люблю тебя, и сквозь тебя, Марина,
Виденье соименницы твоей!
Осень 1929 * * *
В крови и в рифмах недостача.
Уж мы не фыркаем, не скачем,
Не ржём и глазом не косим, —
Мы примирились с миром сим.
С годами стали мы послушней.
Мы грезим о тепле конюшни,
И, позабыв безумства все,
Мы только помним об овсе...
Плетись, плетись, мой мирный мерин!
Твой шаг тяжёл, твой шаг размерен,
И огнь в глазах твоих погас,
Отяжелелый мой Пегас!
6 октября 1931 * * *
И вправду, угадать хитро,
Кто твой читатель в мире целом:
Ведь пущенное в даль ядро
Не знает своего прицела.
Ну что же, — в темень, в пустоту.
— А проще: в стол, в заветный ящик —
Лети, мой стих животворящий,
Кем я дышу и в ком расту!
На полпути нам путь пресек
Жестокий век. Но мы не ропщем, —
Пусть так! А все-таки, а в общем
Прекрасен этот страшный век!
И пусть ему не до стихов,
И пусть не до имён и отчеств,
Не до отдельных одиночеств, —
Он месит месиво веков!
29 октября 1931 * * *
Гони стихи ночные прочь,
Не надо недоносков духа:
Ведь их воспринимает ночь,
А ночь — плохая повитуха.
Безумец! Если ты и впрямь
Высокого возжаждал пенья,
Превозмоги, переупрямь
Своё минутное кипенье.
Пойми: ночная трескотня
Не станет музыкой, покуда
По строкам не пройдет остуда
Всеобнажающего дня.
3 ноября 1931 * * *
Измучен, до смерти замотан,
Но весь — огонь, но весь — стихи, —
И вот у ног твоих он, вот он,
Косматый выкормыш стихий!
Его как голубка голубишь,
Подёргиваешь за вихор,
И чудится тебе: ты любишь,
Как не любила до сих пор.
Как взгляд твой пристален и долог!
Но ты глазам своим не верь,
И помни: ни один зоолог
Не знает, что это за зверь.
Май 1932 * * *
Паук заткал мой тёмный складень,
И всех молитв мертвы слова,
И обезумевшая за день
В подушку никнет голова.
Вот так она придёт за мной, —
Не музыкой, не ароматом,
Не демоном тёмнокрылатым,
Не вдохновенной тишиной, —
А просто пёс завоет, или
Взовьется взвизг автомобиля,
И крыса прошмыгнёт в нору.
Вот так! Не добрая, не злая,
Под эту музыку жила я,
Под эту музыку умру.
Агарь
Сидит Агарь опальная,
И плачутся струи
Источника печального
Беэрлахай-рои.
Там — земли Авраамовы,
А сей простор — ничей:
Вокруг, до Сура самого,
Пустыня перед ней.
Тоска, тоска звериная!
Впервые жжет слеза
Египетские, длинные,
Пустынные глаза.
Блестит струя холодная,
Как лезвие ножа, —
О, страшная, бесплодная,
О, злая госпожа!..
«Агарь!» — И кровь отхлынула
От смуглого лица.
Глядит, — и брови сдвинула
На Божьего гонца…
Алкеевы строфы
И впрямь прекрасен, юноша стройный, ты:
Два синих солнца под бахромой ресниц,
И кудри темноструйным вихрем,
Лавра славней, нежный лик венчают.
Адонис сам предшественник юный мой!
Ты начал кубок, ныне врученный мне, —
К устам любимой приникая,
Мыслью себя веселю печальной:
Не ты, о юный, расколдовал ее.
Дивясь на пламень этих любовных уст,
О, первый, не твое ревниво, —
Имя мое помянет любовник.
3 октября 1915 * * *
Без оговорок, без условий
Принять свой жребий до конца,
Не обрывать на полуслове
Самодовольного лжеца.
И самому играть во что-то —
В борьбу, в любовь — во что горазд,
Покуда к играм есть охота,
Покуда ты еще зубаст.
Покуда правит миром шалый,
Какой-то озорной азарт,
И смерть навеки не смешала
Твоих безвыигрышных карт.
Нет! К черту! Я сыта по горло
Игрой — Демьяновой ухой.
Мозоли в сердце я натерла
И засорила дух трухой, —
Вот что оставила на память
Мне жизнь, — упрямая игра,
Но я смогу переупрямить
Ее, проклятую!.. Пора!
2 ноября 1932 Белой ночью
Не небо — купол безвоздушный
Над голой белизной домов,
Как будто кто-то равнодушный
С вещей и лиц совлек покров.
И тьма — как будто тень от света,
И свет — как будто отблеск тьмы.
Да был ли день? И ночь ли это?
Не сон ли чей-то смутный мы?
Гляжу на все прозревшим взором,
И как покой мой странно тих,
Гляжу на рот твой, на котором
Печать лобзаний не моих.
Пусть лживо-нежен, лживо-ровен
Твой взгляд из-под усталых век, —
Ах, разве может быть виновен
Под этим небом человек!
<1912–1915> * * *
«Будем счастливы во что бы то ни стало…»
Да, мой друг, мне счастье стало в жизнь!
Вот уже смертельная усталость
И глаза, и душу мне смежит.
Вот уж, не бунтуя, не противясь,
Слышу я, как сердце бьет отбой,
Я слабею, и слабеет привязь,
Крепко нас вязавшая с тобой.
Вот уж ветер вольно веет выше, выше,
Все в цвету, и тихо все вокруг, —
До свиданья, друг мой! Ты не слышишь?
Я с тобой прощаюсь, дальний друг.
31 июля 1933, Каринское * * *
В душе, как в потухшем кратере,
Проснулась струя огневая, —
Снова молюсь Божьей Матери,
К благости женской взывая:
Накрой, сбереги дитя мое,
Взлелей под спасительной сенью
Самое сладкое, самое
Злое мое мученье!
* * *
В земле бесплодной не взойти зерну,
Но кто не верил чуду в час жестокий?—
Что возвестят мне пушкинские строки?
Страницы милые я разверну.
Опять, опять «Ненастный день потух»,
Оборванный пронзительным «но если»!
Не вся ль душа моя, мой мир не весь ли
В словах теперь трепещет этих двух?
Чем жарче кровь, тем сердце холодней,
Не сердцем любишь ты, — горячей кровью.
Я в вечности, обещанной любовью,
Не досчитаю слишком многих дней.
В глазах моих веселья не лови:
Та, третья, уж стоит меж нами тенью.
В душе твоей не вспыхнуть умиленью,
Залогу неизменному любви, —
В земле бесплодной не взойти зерну,
Но кто не верил чуду в час жестокий?—
Что возвестят мне пушкинские строки?
Страницы милые я разверну.
* * *
В этот вечер нам было лет по сто.
Темно и не видно, что плачу.
Нас везли по Кузнецкому мосту,
И чмокал извозчик на клячу.
Было все так убийственно просто:
Истерика автомобилей;
Вдоль домов непомерного роста
На вывесках глупость фамилий;
В вашем сердце пустынность погоста;
Рука на моей, но чужая,
И извозчик, кричащий на остов,
Уныло кнутом угрожая.
1915 * * *
Вал морской отхлынет и прихлынет,
А река уплывает навеки.
Вот за что, только молодость минет,
Мы так любим печальные реки.
Страшный сон навязчиво мне снится:
Я иду. Путь уводит к безлюдью.
Пролетела полночная птица
И забилась под левою грудью.
Пусть меня положат здесь на отмель
Умирать, вспоминая часами
Обо всем, что Господь у нас отнял,
И о том, что мы отняли сами.
* * *
Видно, здесь не все мы люди — грешники,
Что такая тишина стоит над нами.
Голуби, незваные приспешники
Виноградаря, кружатся над лозами.
Всех накрыла голубая скиния!
Чтоб никто на свете бесприютным не был,
Опустилось ласковое, синее,
Над садами вечереющее небо.
Детские шаги шуршат по гравию,
Ветерок морской вуаль колышет вдовью.
К нашему великому бесславию,
Видно, Господи, снисходишь ты с любовью.
* * *
Выставляет месяц рожки острые.
Вечереет на сердце твоем.
На каком-то позабытом острове
Очарованные мы вдвоем.
И плывут, плывут полями синими
Отцветающие облака…
Опахало с перьями павлиньими
Чуть колышет смуглая рука.
К голове моей ты клонишь голову,
Чтоб нам думать думою одной,
И нежней вокруг воркуют голуби,
Колыбеля томный твой покой.
Газэлы
Утишительница боли — твоя рука,
Белотелый цвет магнолий — твоя рука.
Зимним полднем постучалась ко мне любовь,
И держала мех соболий твоя рука.
Ах, как бабочка, на стебле руки моей
Погостила миг — не боле — твоя рука!
Но зажгла, что притушили враги и я,
И чего не побороли, твоя рука:
Всю неистовую нежность зажгла во мне,
О, царица своеволий, твоя рука!
Прямо на сердце легла мне (я не ропщу:
Сердце это не твое ли!) — твоя рука.
1915 * * *
Голубыми туманами с гор на озера плывут вечера.
Ни о завтра не думаю я, ни о завтра и ни о вчера.
Дни — как сны. Дни — как сны.
Безотчетному мысли покорней.
Я одна, но лишь тот, кто один, со вселенной
Господней вдвоем.
К тайной жизни, во всем разлитой, я прислушалась
в сердце моем, —
И не в сердце ль моем всех цветов зацветающих
корни?
И ужели в согласьи всего не созвучно биенье сердец,
И не сон — состязание воль? — Всех венчает единый
венец:
Надо всем, что живет, океан расстилается горний.
<1912–1915> * * *
Господи! Я не довольно ль жила?
Берег обрывист. Вода тяжела.
Стынут свинцовые отсветы.
Господи!..
Полночь над городом пробило.
Ночь ненастлива.
Светлы глаза его добела,
Как у ястреба…
Тело хмельно, но душа не хмельна,
Хоть и немало хмельного вина
Было со многими роспито…
Господи!..
Ярость дразню в нем насмешкою,
Гибель кличу я, —
Что ж не когтит он, что мешкает
Над добычею?
* * *
Да, я одна. В час расставанья
Сиротство ты душе предрек.
Одна, как в первый день созданья
Во всей вселенной человек!
Но, что сулил ты в гневе суетном,
То суждено не мне одной, —
Не о сиротстве ль повествует нам
Признанья тех, кто чист душой.
И в том нет высшего, нет лучшего,
Кто раз, хотя бы раз, скорбя,
Не вздрогнул бы от строчки Тютчева:
«Другому как понять тебя?»
* * *
Дай руку, и пойдем в наш грешный рай!..
Наперекор небесным промфинпланам,
Для нас среди зимы вернулся май
И зацвела зеленая поляна,
Где яблоня над нами вся в цвету
Душистые клонила опахала,
И где земля, как ты, благоухала,
И бабочки любились налету…
Мы на год старше, но не все ль равно, —
Старее на год старое вино,
Еще вкусней познаний зрелых яства…
Любовь моя! Седая Ева! Здравствуй!
Ноябрь 1932