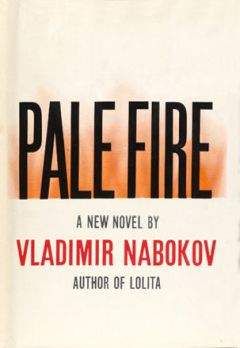Он ответил, что на следующий месяц едет в Америку, а завтра у него дело в Париже.
Почему в Америку? Что он там станет делать?
Преподавать. Изучать литературные шедевры с блестящими и очаровательными молодыми людьми. Хобби, которому он теперь волен отдаться.
— Я, конечно, не знаю, — забормотала она, не глядя, — не знаю, но может быть, если ты ничего не имеешь против, я могла бы приехать в Нью-Йорк, — я хочу сказать, всего на неделю-другую, не в этом году, в следующем.
Он похвалил ее блузу, усыпанную серебристыми блестками. Она настаивала: «Так как же?» «И прическа тебе к лицу.» «Ах, ну какое все это имеет значение, — простонала она. — Господи, какое значение имеет хоть что-нибудь!» «Мне пора», — улыбаясь, шепнул он и встал. «Поцелуй меня», — сказала она и на миг обмякла в его руках дрожащей тряпичной куклой.
Он шел к калитке. На повороте тропинки он обернулся и разглядел вдалеке ее белеющую фигуру, с равнодушным изяществом несказанного горя поникшую над садовым столиком, и хрупкий мостик внезапно повис между бодрствующим безразличием и спящей любовью. Но тут она шевельнулась, и он увидал, что это уже не она, а бедная Флер де Файлер, собирающая бумаги, оставленные среди чайной посуды. (Смотри примечание к строке 81.)
Когда во время нашей вечерней прогулки в мае или в июне 1959 года я развернул перед Шейдом весь этот чарующий материал, он, добродушно улыбаясь, оглядел меня и сказал: «Все это чудесно, Чарльз. Но возникают два вопроса. Откуда вы можете знать, что все эти интимные подробности относительно вашего жутковатого короля — истинная правда? И если это правда, как можно печатать подобные личности о людях, которые, надо полагать, пока еще живы?»
— Джон, дорогой мой, — отвечал я учтиво и настоятельно, — не нужно думать о пустяках. Преображенные вашей поэзией, эти подробности станут правдой, и личности станут живыми. Поэт совершает над правдой обряд очищения, и она уже не способна причянить обиды и боль. Истинное искусство выше ложной почтительности.
— Конечно, конечно, — сказал Шейд. — Конечно, можно запрячь слова, словно ученых блох, и на них поедут другие блохи. А как же!
— И сверх того, — продолжал я, пока мы шли по дороге прямиком в огромный закат, — как только будет готова ваша поэма, как только величие Земблы сольется с величием ваших стихов, я намереваюсь объявить вам конечную истину, чрезвычайный секрет, который вполне усмирит вашу совесть.
Строка 468: прицелился
Едучи обратно в Женеву, Градус гадал, когда же ему доведется проделать это — прицелиться. Стояла несносная послеполуденная жара. Озеро обросло серебристой окалиной, тускло отражавшей грозовую тучу. Как многие опытные стеклодувы, Градус умел довольно точно определять температуру воды по особенностям ее блеска и подвижности, и теперь он заключил, что она составляет не менее 23°. Едва вернувшись в отель, он заказал международный разговор. Разговор получился тяжелым. Полагая, что это привлечет меньше внимания, чем язык страны БЖЗ, злоумышленники переговаривались на английском, — на ломаном английском, чтоб уж быть точным: одно время, ни одного артикля и два произношения, оба неверные. К тому же они следовали хитроумной системе (изобретенной в одной из главных стран БЖЗ), используя два различных набора кодовых слов, — Управление, к примеру, вместо «король» говорило «бюро», а Градус говорил «письмо», от этого трудности общения значительно возрастали. И наконец, каждая из сторон успела забыть смысл кое-каких кодовых фраз из словаря противной стороны, — в итоге их путаная и дорогостоящая беседа походила на помесь игры в шарады с барьерным бегом в темноте. Управление пришло к заключению, что письма короля, выдающие место его пребывания, можно добыть, проникнув на виллу «Диза» и порывшись в бюро королевы, Градус же, ничего подобного не говоривший, но попросту пытавшийся отчитаться о визите в Лэ, с досадой узнал, что ему надлежит не искать короля в Ницце, а дожидаться в Женеве партии консервированной лососятины. Одно он, во всяком случае, уяснил: впредь ему следует не звонить, а слать письма или телеграммы.
Строка 469: негр
Однажды мы беседовали о предрассудках. Ранее в этот день, за завтраком в преподавательском клубе, гость профессора Х., дряхлый отставной ученый из Бостона, которого его хозяин с глубоким почтением аттестовал как «истинного патриция, настоящего брамина голубых кровей» (дед брамина торговал подтяжками в Белфасте), самым естественным и добродушным образом отнесся о происхождении одного не очень привлекательного нового сотрудника библиотеки колледжа: «представитель „избранного народа“, насколько я понимаю» (и при этом уютно фыркнул от удовольствия), на что доцент Миша Гордон, рыжий музыкант, резко заметил, что «Бог, разумеется, волен выбирать себе какой угодно народ, но человек обязан выбирать приличные выражения».
Пока мы неторопливо возвращались, мой друг и я, в наши сопредельные замки, осененные легким апрельским дождичком, о котором он в одном из своих лирических стихотворений сказал:
Эскиз Весны, небрежный, карандашный
Шейд говорил о том, что больше всего на свете он ненавидит пошлость и жестокость, и что эта парочка идеально сочетается в расовых предрассудках. Он сказал, что как литератор, он не может не предпочесть «еврея» — «иудею» и «негра» — «цветному», но тут же прибавил, что сама подобная манера на одном дыхании упоминать о двух розных предубеждениях — это хороший пример беспечной или демагогической огульности (столь любезной левым), поскольку в ней стираются различия между двумя историческими моделями ада: зверством гонений и варварскими привычками рабства. С другой стороны [допустил он] слезы всех униженных человеческих существ в безнадежности всех времен математически равны друг дружке, и возможно [полагал он], не слишком ошибешься, усмотрев семейное сходство (обезьянью вздутость ноздрей, тошнотную блеклость глаз) между линчевателем в жасминовом поясе и мистическим антисемитом, когда оба они предаются излюбленной страсти. Я сказал, что молодой негр-садовник (смотри примечание к строке 998), недавно нанятый мной, — вскоре после изгнания незабвенного квартиранта (смотри Предисловие), — неизменно употребляет слово «цветной». Как человек, торгующий словами, новыми и подержанными [заметил Шейд], он не переносит этого эпитета не только потому, что в художественном отношении он уводит в сторону, но и потому, что значение его слишком зависит от того, кто его прилагает и к чему. Многие сведущие негры [признал он] считают его единственно достойным употребления словом, эмоционально нейтральным и этически безобидным, их авторитет обязывает всякого порядочного человека, не принадлежащего к неграм, следовать этому указанию, но поэты указаний не любят, впрочем, люди благовоспитанные обожают, чему-нибудь следовать и ныне используют «цветной» вместо «негр» так же, как «нагой» вместо «голый» и «испарина» вместо «пот», — хотя конечно [допустил он], и поэту случается приветить в «наготе» ямочку на мраморной ягодице или бисерную уместность в «испарине». Приходилось также слышать [продолжал он], как это слово используется в виде шутливого эвфемизма в каком-нибудь черномазом анекдоте, где нечто смешное говорится или совершается «цветным джентльменом» (неожиданно побратавшимся с «еврейским джентльменом» викторианских повестушек).
Я не вполне понял его «художественные» возражения против слова «цветной». Он объяснил это так: в самых первых научных трудах по птицам, бабочкам, цветам и так далее изображения раскрашивались от руки прилежными акварелистами. В дефектных или же недоношенных экземплярах некоторые из фигурок оставались пустыми. Выражения «белый» и «цветной человек», оказавшиеся в непосредственном соседстве, всегда напоминали моему поэту — и так властно, что он забывал принятые значения этих слов, те окаемы, что так хотелось ему заполнить законными цветами — зеленью и пурпуром экзотического растения, сплошной синевой оперения, гераниевой перевязью фестончатого крыла. «И к тому же [сказал он], мы, белые, вовсе не белые, — при рождении мы сиреневые, потом приобретаем цвета чайной розы, а позже — множество иных отталкивающих оттенков.»
Строка 476: Папаша-Время, старый сторож здешний
Читателю следует обратить внимание на изящную перекличку со строкой 313.
Строка 489: Экс
«Экс» означает, по-видимому, Экстон, — фабричный городок на южном берегу озера Омега. В нем находится довольно известный музей натуральной истории, во многих витринах которого выставлены чучела птиц, пойманных и набитых Сэмюелем Шейдом.