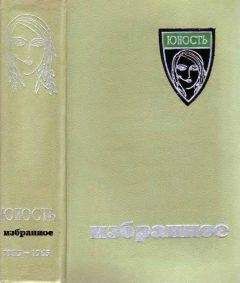Вдруг она вспомнила тысячу, полученную в Москве, и ей стало так жалко эту тысячу, новенькую пачку денег, оклеенную бумажками с красными полосками, так бездумно потраченную на часики зачем-то, на конфеты и мороженое.
Нет, Натка, никогда не копила денег, как некоторые, скажем, ее мачеха. Да она бы перестала себя уважать, будь хоть чуточку похожей на нее. Просто она зарабатывала хорошие деньги и никогда не тряслась над рублем, отдавала отцу и тратила на себя, не жалея. Она знала, что всегда заработает, как настоящий трудящийся человек.
А вот тут ей было невыносимо жаль тысячи. Может быть, потому, что, имей она сейчас эти деньги, она бы не чувствовала себя такой беззащитной.
Но у нее осталось сорок рублей, а она в чужом краю, за тридевять земель от дома, и вот ей опять страшно.
Ох, как она жалела и упрекала себя за то, что не сохранила тысячу, ой, на что ей нужны были эти часики!.. Глупая она, всегда была и осталась глупой. Седьмой класс окончила с тройкой по английскому языку, вместо восьмого пошла на завод. А ведь без образования в наш век науки никак нельзя. Вот и перезабыла все, чему училась. А что, если здесь школы не будет, что тогда? Зачем она поехала в Сибирь, зачем? Дома и в школу можно было ходить. Подумаешь, мачеха, теснота — да не палатка на сырой земле. И квартиру отцу скоро дадут. Прописку московскую потеряла. Все променяла, все променяла… На что?
Она вспомнила шумные проводы, медные трубы оркестра, себя на привокзальной площади — взволнованную, с горящими от удовольствия щеками, скромно-гордую, отважную. А подружки оставались. Они смотрели на нее с уважением. Ах, какой маленькой, какой наивной девочкой она была!..
Ногам стало мокро. Натка приподнялась, пощупала: на одеяле стояла лужица. Вода просочилась сквозь брезент и капала быстро-быстро.
Дрожа от холода и возмущения, Натка вскочила и потянула кровать. Ножки увязли в земле, и она их насилу вырвала. Придвинув кровать вплотную к Тамаркиной, она выждала минутку — не каплет ли здесь, и забралась под одеяло: надо было согреться. Но тут она вспомнила, что теперь остались открытыми сумка с луком и все ее вещи, хранившиеся под кроватью. Хорошо, что еще вспомнила, растяпа! Она опять вскочила, принялась в потемках передвигать и совать под кровать узелки, чемодан, корзины. Пока шарила в мокрой траве, окоченели руки, неизвестно, чем их вытереть.
Управившись с вещами, Натка легла в остывшую постель и чуть не застонала от холода и тоски.
Простыни были мокрые, жесткие, в воздухе стояла тяжелая сырость, темнота угнетала, весь мир был бесприютный, только и счастья в нем, что брезентовая протекающая палатка, да под кроватью кой-какая одежонка, две пары туфель, а тысячу она потратила на мороженое. И за плечами семнадцать лет…
Она услышала, как тяжко вздохнула Тамара, и обрадовалась этому несказанно, как обрадовалась бы теплой печке. Она шепотом позвала:
— Тамар!..
— А?
— Ты почему это не спишь?
— А ты?
— А на меня целый фонтан полился. На тебя не каплет?
— Нет.
Натка протянула руку, нащупала горячий, полненький локоть Тамары.
Невидимые забинтованные пальцы подруги сжали ее кисть.
— Ну и дождик, скажи, Том, а?
— Ага…
— А ты почему не спишь?
— Так… думаю.
— Не надо думать. Надо спать. Уже час ночи.
— Я не могу привыкнуть. В Москве сейчас только восемь вечера.
— В кино люди пошли…
— Ага…
— А у тебя мальчик в Москве был?
— Нет… — прошептала Тамара.
— А за мной ухаживали, на заводе! — похвасталась Натка. — Скажи, а этот, Никита, тебе понравился?
— Не знаю.
— По-моему, он ничего, только больно какой-то… несуразный. Ну его! Правда?
Она совсем не то хотела сказать. Она не могла забыть, как ей стало тепло, какой она себя почувствовала опять смелой и отважной, познакомившись с Никитой. Ей хотелось сказать, что ведь вот он, наверное, тоже совсем один, еще и товарищи над ним посмеялись, а он не побоялся ничего, он серьезный и скромный, так просто объяснил, что мошка пройдет, это только сезон, и вот сапоги начисто помыл, а все ходят в грязных. Только у него нет, наверное, никаких вещей; а она бы сумела сшить ему трусы для купания, чтобы не хихикали над ним разные зубоскалы. Она сказала «ну его» только от обиды, что он не пришел, а вообще ей так тепло и хорошо было думать о нем…
— Если у меня когда-нибудь будет муж, я не велю ему так далеко плавать, — сказала она. — Знаешь, ведь всякое бывает, могут схватить судороги.
— А я никогда не выйду замуж, — прошептала Тамара.
— Почему?
— Не хочу.
— Все выходят почему-то.
— А я не хочу!
— Ну, что ты! Наверно, надо…
— Что надо? Сидеть дома, ждать мужа, варить ему обед, он придет — на стол подавай; на базар ходить, пеленки стирать… Не хочу! Не выйду замуж! Ничего я не хочу! Ничего!
Натка пощупала горящие Тамарины щеки.
— Я и сама не хочу, Том, я не знаю, может, и я тоже еще не выйду. — Она вздохнула. — Да и где теперь найдешь хорошего мужа? Такие теперь большая редкость…
Она погладила забинтованную руку, которая благодарно сжалась.
— В Москве за мной ухаживал один мальчик, пожениться даже предлагал, ничего себе, только уж такой… несерьезный, ну, форменный бандит. А я взяла и в Сибирь поехала. Лучше мы сами по себе тут будем жить, правда?
— Да… — Рука дрогнула, пальцы разжались.
— Что с тобой?
— Натка, я боюсь. Я боюсь… — дрожащим голосом сказала Тамара. — Я отработаю, отработаю три года и вернусь к маме. Вот увидишь, я вернусь. Только не покидай меня! Все я выдержу — и вернусь…
Натка погладила влажные от сырости волосы подруги.
— Ничего… Ничего, все уладится, — сказала она ласково. — Ты теперь большая, ты же теперь рабочий человек и среднее образование имеешь.
— Я вернусь, я вернусь, — твердила Тамара.
— Ну, что «вернусь», Тамарочка? — сказала Натка. — Стыдись! Не реви, ну, конечно, мы отработаем все, а там посмотрим, как будет. Что ж, мы разве одни? Вон нас тут сколько много! А обидит кто — да мы его заклюем, мы ему глаза выцарапаем, ты не думай. Рабочие, они знаешь, как друг за дружку стоят? Вот у нас в заводе…
И она стала рассказывать разные случаи, все повторяла «у нас в заводе» и под конец сама глубоко убедилась, что им, девчонкам, море по колено и впереди предстоит, возможно, завидная жизнь, так что, может быть, и бежать не понадобится, а Тамарка слушала, слушала и заснула как-то сразу.
— Вот дитя мне еще, — усмехнулась Натка. — Постой, а что ж это я не сплю?
Дождик продолжался. Булькали капли в лужицы на полу. Верка в углу храпела.
— Вер!.. — позвала Натка. — Вера!.. Вот грех какой!
Пересилив себя, она встала, пошлепала по доскам, нащупала Веркин бок.
— Вер, проснись. Слышишь, ведь сама просила! Бедненькая ты моя.
— А? Спасиб… — Верка сладко и шумно перевернулась на другой бок, а Натка ощупью вернулась, закуталась в одеяло конвертиком и зажмурила глаза.
И поплыли перед глазами буйные потоки воды, они с орудийным грохотом расшибались о пороги, дыбились, дробились, вертели в водовороте маленькую упрямую точку, а точка плыла и выплывала на широкий простор, на самый стрежень, не оглядываясь, и Натке было тревожно-сладко; она ведь знала, что все это уже было и кончилось тогда хорошо: точка доплыла. Только сейчас надо было подождать немножко, чтобы все так изумительно повторилось, чтобы еще раз увидеть и пережить…
6
Танцы состоялись, но не в воскресенье, а в субботу. И девушки, едва пришли с работы, принялись готовиться к ним. Танцы — всегда большое, серьезное дело, а в таких обстоятельствах тем более.
В палатке стояла невообразимая суматоха. Утюг рвали из рук. Никто не соглашался варить суп, Валя отказалась наотрез, она уже час сидела перед зеркалом, подвивала раскаленным гвоздем волосы. Ее никто не осуждал, наоборот, образовалась очередь на гвоздь.
Поставили наконец кипятить воду, решив сварить просто яблочный кисель из порошка.
Натка разложила на кровати блузки, оба выходных платья, обе пары туфель, соображая, что лучше надеть. Тамара печально сидела на своей кровати, трогая нос. Картина была неприглядная: за две недели они все здесь обветрились, обгорели, и нос у Тамары лупился. Натка заглянула в зеркальце: батюшки, и у нее собирается лупиться!.. У нее просто руки опустились. Вот не было горя!
Она вообще-то не любила крутиться перед зеркалом. По правде, сама не понимала, красивая она или нет. Скорее нет, если мужественно взглянуть правде в глаза. Но вообще ведь как на чей вкус. Когда-то ей очень хотелось быть красивой, она всматривалась, всматривалась в себя и вдруг поверила, что красивая. Теперь она так не думала. Личико, правда, вроде ничего: кругленькое, доброе. Вот нос картошечкой, явно неудачный нос. Глаза не столько голубые, сколько зеленые; брови совсем не вышли, хоть дорисуй карандашом, такие бесцветные. Но ведь и не то бывает, рассуждала она. Сойдет и так, может быть?..