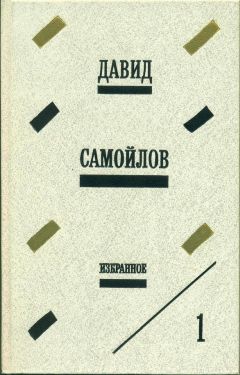Ознакомительная версия.
Трудно писать о Марии Сергеевне. Ведь все, что говорится о ней,— говорится впервые. Я рассказываю детали. А сам образ еще не намечен, хотя бы приблизительно. И возможно, по недостатку материалов он будет выстроен по ее стихам. Ну что ж, личность поэта — его стихи. А несовпадение земного облика с этим высоким образом, в сущности, случайность. И Мария Петровых предстанет перед будущими поколениями не в отрыве от своих стихов, а только в единстве с ними.
У меня есть несколько писем от Марии Сергеевны. Написаны они по поводу посланных ей моих книг.
Там несколько признаний.
«А я совсем перестала писать, Давид. Для человечества от этого потери никакой, но душе моей очень больно. Беда, когда есть какие-то данные, но нет призвания».
«Я нелепый, нескладный, оцепеневший человек».
Так она думала о себе. Думала в прозе. А в поэзии другие слова: «пристальная душа», «невольная сила». Это вернее.
Менее чем за год до смерти переехала она в удобную квартиру на Ленинском проспекте. По этому поводу писала:
«Очень понятно мне ваше стихотворение про «ветры пятнадцатых этажей». Я живу на 11-м, но это все равно что пятнадцатый... А я очень тоскую по тем низеньким ветрам — слишком привыкла к ним за всю жизнь.
Не уверена в том, что живу, но существую. Здесь много неба, которого в городе не видишь, не замечаешь и даже забываешь о нем. Вот небом и утешаюсь».
Это из последнего письма ко мне.
Еще детали. Первый посмертный цикл стихотворений Марии Сергеевны был опубликован в газете Тартуского университета.
Мария Сергеевна — редактор. Кто-то из переводчиков о ней, доброй и кроткой, выразился: «Зверь». По редакторской работе я понял ее отношение к переводу: страстное, личное. Пристальность души проявлялась и здесь. Она волновалась, огорчалась, когда чувство и мысль переводимого автора искажались своеволием переводчика. Она всегда любила того, кого переводила. Она болела за каждую строчку, словно сама ее написала. Редактируемые обижались. Им хотелось проявить поэтическую индивидуальность. Но в переводе она проявляется именно в страстном и бережном отношении к тексту. Свойства «пристальной души» проявились и здесь. А в редакторском деле — твердость и воля.
Впрочем, это все наброски к портрету. Я еще напишу о Марии Сергеевне Петровых.
* * *
Этот нежный, чистый голос,
Голос ясный, как родник...
Не стремилась, не боролась,
А сияла, как ночник.
Свет и ключ! Ну да, в пещере
Эта смертная свеча
Отражалась еле-еле
В клокотании ключа.
А она все пряла, пряла,
Чтоб себе не изменить,
Без конца и без начала
Все тончающую нить.
Ах, отшельница! Ты лета
Не видала! Но струя
Льется — свежести и света —
Возле устья бытия.
Той отшельницы не стало,
Но по-прежнему живой
Свет лампада льет устало
Над водою ключевой.
В коротких словах не расскажешь об Алексее Эйснере. Это был человек яркого таланта, незаурядного характера, необычной судьбы. Когда будет написана его биография, перед читателем предстанет образ истинного героя неприглаженной истории нашего века. Его личность формировалась в крутых ситуациях глобальной истории, которых он был свидетелем, участником, а порой и жертвой.
Тем, кому имя Алексея Эйснера покажется знакомым, напомню, что он был автором очерков «Писатели в интербригадах» и «Двенадцатая интернациональная», напечатанных в журнале «Новый мир» в конце 50-х годов, и книги «Человек с тремя именами» о генерале Лукаче (Мате Залке). Все эти публикации связаны с Гражданской войной в Испании (1936—1939), столь памятной нескольким поколениям советских людей. Принято считать, что это главная эпопея в жизни Алексея Владимировича. Исследователи в этом разберутся. В Испанию вел нелегкий путь, а к очеркам — еще более долгий и тяжкий.
Расскажу, как узнал об Алексее Эйснере и как познакомился с ним. В странах Европы, освобожденных Советской Армией от гитлеровского нашествия, попадались следы русской эмиграции — в разбитых, покинутых домах были книги и журналы. Читать их было некогда. Удавалось иногда перелистать страницы, наткнуться на знакомые имена: Бунин, Куприн, Бальмонт, Цветаева. Другие имена были вовсе не слышаны нами.
Все это печатное слово было, конечно, обречено на уничтожение. Кажется, одному Борису Слуцкому, майору политотдела армии, пришло в голову вырезать из журналов стихи. Потом он переплел вырезки в книгу. (Да будет стыдно тому, кто ее у меня украл!)
В этом самодельном томе была небольшая поэма «Конница», напечатанная в пражском журнале «Воля России» за 1928 год. Автор — Алексей Эйснер.
«Конница» поразила нас яркостью, вещественностью своего стиха, невероятной энергией и какой-то необычной для эмигрантской поэзии нотой. Она была о победном походе красной конницы. В ней было восхищение и любование. Конечно, ощущалась там стихия блоковских «Скифов», но как-то самостоятельно претворенная. Строфы «Конницы» легко запоминались.
Толпа подавит вздох глубокий,
И оборвется женский плач,
Когда, надув сурово щеки,
Поход сыграет штаб-трубач.
Легко вонзятся в небо пики,
Чуть заскрежещут стремена.
И кто-то двинет жестом диким
Твои, Россия, племена.
Постарались узнать, кто такой Алексей Эйснер. От И.Г. Эренбурга стало известно, что он принадлежал к молодому поколению русской эмиграции, попал за рубеж подростком, в 30-е годы жил в Париже, работал мойщиком стекол, стал коммунистом, воевал в Испании в интербригадах, где был адъютантом генерала Лукача. На этом сведения прерываются. Трудно было предположить, что мы когда-нибудь встретимся.
Однако это произошло году в 1957 (или на год раньше). Мы со Слуцким были приглашены на обед к Антонину Ладинскому, поэту, в ту пору вернувшемуся на родину из парижской эмиграции. Нас долго не звали к столу. Хозяин объяснил задержку: «Должен прийти Алеша Эйснер».
— Автор «Конницы»?
— Именно он.
Я так и ахнул. Антонин Петрович, видимо, специально задумал эту эффектную встречу.
Вскоре пришел Эйснер. Впечатление от него в те годы очень хорошо описано в статье Л. Ю. Слезкина «Памяти А. В. Эйснера» (в книге «Проблемы испанской истории», М., 1987): «Он выглядел молодо, двигался стремительно. Густые темные волосы, немного тронутые сединой, Распадались (…когда он говорил), с его лица исчезали следы жизненных испытаний, которые угадывались в нескольких резких морщинах, чуть опущенных плечах, остром взгляде карих глаз. (…) Поражала феноменальная память, необыкновенная смелость суждений, истинный артистизм в передаче случившегося и зарисовке характеров, необъятный диапазон знакомств, в том числе с людьми, чьи имена известны всем».
В разговоре дошло до стихов, и я прочитал наизусть всю «Конницу». Случай был необычный. Вещь, напечатанная в Праге почти тридцать лет тому назад, неожиданно прозвучала в Москве. Поистине, что написано пером, того не вырубишь топором.
Алексей Владимирович довольно улыбался, а потом небрежно махнул рукой, сказал:
— Стишки, стишки. Я давно уже их не пишу.
Много было резких зигзагов в судьбе и взглядах Алексея Эйснера. Он всегда остро проживал время и менялся вместе с ним. В его раннем формировании трудно было предугадать будущего интербригадовца, любимца бойцов, адъютанта легендарного генерала.
Алексей Эйснер 1905 года рождения. Отец — киевский губернский архитектор, мать — из семьи черниговского губернатора. Ранее детство не было безмятежным. Родители расстались. Мать вторично вышла замуж за высокопоставленного петербургского чиновника и вскоре умерла. Отчим определил одиннадцатилетнего мальчика в Первый кадетский корпус в Петрограде. А через год пришла революция. Алеша с отчимом переехали в Москву. В голодухе и неразберихе он стал Гаврошем толкучки. Потом — тяжелый путь на юг России. Эвакуация из Новороссийска вместе с остатками Добровольческой армии. Константинополь. Югославия. В Сараево он поступает в русский кадетский корпус. В двадцать лет оканчивает его. Он не хочет быть офицером Сербохорватского' королевства. Уезжает в Прагу.
Там он активно включается в литературную жизнь, печатается в русских периодических изданиях. Его публикации обращают на себя внимание М. Горького. «В «Воле России»,— пишет он одному из своих знакомых,— очень хорошие стихи Алексея Эйснера, не знаете, молодой?..» (Сорренто, 1927).
Молодой поэт все меньше чувствует себя своим в эмигрантской среде. Его тянет на родину. В поисках единомышленников он уезжает в Париж, сближается с «Союзом возвращения на родину». Одновременно вступает в члены Французской компартии. Цветаева пишет об Эйснере тех лет, что он ей «решительно нравится. Смесь ребячества и настоящего самобытного ума. Лично — скромен, что дороже дорогого» (из письма 1923 года).
Ознакомительная версия.