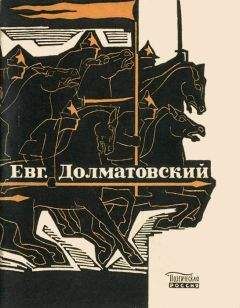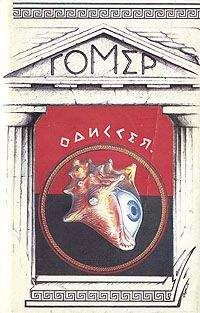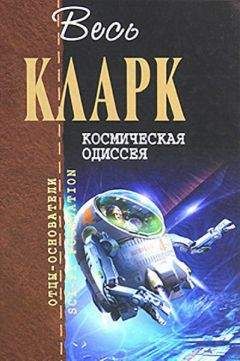Система йогов
Изучать систему йогов не хочу,
К огорчению факиров и ученых.
В детстве было: руку на свечу —
Прослывешь героем у девчонок.
Многоликий, многоногий бог
Смотрит, кто это к нему приехал в гости;
Смог бы иностранец иль не смог
Для проверки воли лечь на гвозди?
Я сумел бы, да не стану напоказ
Протыкать себя отточенным стилетом.
Признаюсь, что пробовал не раз,
Правда, оставался цел при этом.
У себя я снисхожденья не просил —
Будет страшно, будет больно, ну и ладно!
Ревности горящий керосин
Я глотал отчаянно и жадно;
Если сердце обвивала мне змея,
И сжимала, и сжимала, и сжимала,
Слишком громко, но смеялся я.
Пусть считают — мне и горя мало.
Между ребер мне вонзали клевету,
Заставляли выгибаться, я не гнулся,
И мерзавили мою мечту,
Чтобы рухнул и уснул без пульса.
Было на ухабах всех моих дорог
Столько случаев для испытанья воли,
Что могу, как настоящий йог,
Демонстрировать пренебреженье к боли.
«В Европе есть страна — красива, аккуратна…»
В Европе есть страна — красива, аккуратна,
Величиной с Москву — возьмем такой масштаб.
Историю войны не повернешь обратно:
Осело в той стране пять тысяч русских баб.
Простите, милые, поймите, я не грубо,
Совсем невмоготу вас называть «мадам».
Послушайте теперь охрипший голос друга.
Я, знаете, и сам причастен к тем годам.
На совести моей Воронеж и Прилуки,
Всех отступлений лютая тоска.
Девчонок бедных мраморные руки
Цепляются за борт грузовика.
Чужая сторона в неполные семнадцать…
Мы не застали их, когда на запад шли.
Конвейером разлук чужим годам сменяться.
Пять тысяч дочерей от матерей вдали.
Догнать, освободить поклялся я когда-то.
Но, к Эльбе подкатив, угас приказ — вперед!
А нынче их спасать, пожалуй, поздновато:
Красавицы мои вошли в чужой народ.
Их дети говорят на языке фламандском,
Достаточно прочны и домик и гараж,
У мужа на лице улыбка, словно маска,
Спланировано все — что купишь, что продашь.
Нашлись и не нашлись пропавшие без вести.
Теперь они навзрыд поют «Москва моя»,
Штурмуют Интурист, целуют землю в Бресте,
Приехав навестить родимые края.
Простите за рифму — отель и Брюссель,
Сам знаю, что рифма — из детских.
На эту неделю отель обрусел
Полно делегаций советских.
По облику их отличить мудрено
От прочих гостей иностранных.
Ни шляп на ушах, ни широких штанов
Давно уже нет, как ни странно.
Спускаюсь на завтрак, играя ключом.
Свои тут компанией тесной.
Пристроился с краю.
За нашим столом
Свободны остались два места.
И вдруг опустились на эти места
Без спроса — две потные глыбы.
Их курток нейлоновая пестрота
Раскраски лососевой рыбы.
А может быть, солнечный луч средь лиан
Такое дает сочетанье.
Свои парашюты свалив на диван,
Они приступают к питанью.
А морды!
Морщинами сужены лбы,
Расплющенные сопатки.
Таким бы обманным приемом борьбы
Весь мир положить на лопатки.
Пока же никто никому не грозит,
Мы пьем растворимый кофе.
В Брюсселе у них лишь короткий транзит
И дальше — к своей катастрофе.
Куда? Я не знаю… Туда, где беда,
Иль в Конго, иль в джунгли Меконга
Несет красноватого цвета вода
Обугленный трупик ребенка.
А пленник,
В разбитых очках,
Босиком,
Ждет казни, бесстрастно и гордо,
Клеймя густокровым последним плевком
Вот эти заморские морды.
Как странно, что женщина их родила,
Что, может быть, любит их кто-то.
Меж нами дистанция — пластик стола,
Короче ствола пулемета.
…Закончена трапеза.
Мне на доклад
О мирном сосуществованье.
Им — в аэропорт.
Через час улетят
Туда, где проклятья, напалмовый ад,
Бамбуковых хижин пыланье.
Уехали парашютисты.
Покой
Опять воцаряется в холле.
А запах остался — прокисший такой,
Всю жизнь его помнить мне, что ли?
Так пахло от той оскверненной земли,
Где воздух еще не проветрен.
Так в ратушах пахло, откуда ушли
Вот только сейчас интервенты.
Дюны Дюнкерка… Дюны Дюнкерка…
Сдунул тяжелые волны отлив,
Утром сырая равнина померкла,
Давнишней драмы следы обнажив —
Ржавая каска, худая манерка.
Дюны Дюнкерка. Дюны Дюнкерка.
Молча брожу я по зыбкому полю
Боя иль бойни второй мировой.
Чайки, кричащие будто от боли,
Вьются, кружат над моей головой.
Каждый отлив — как упрек и поверка —
В дюнах Дюнкерка, в дюнах Дюнкерка.
Если б они побережье Ламанша
Не уступили так быстро врагу
И не отхлынули, строй поломавши,
Бросив оружие на бегу, —
Фронта второго была бы примерка
В дюнах Дюнкерка, в дюнах Дюнкерка.
В сороковом роковом это было,
Переменить ничего не дано.
Стала Атлантика братской могилой,
Баржа, как гроб, погружалась на дно.
Мертвых сиреной звала канонерка
В дюнах Дюнкерка, в дюнах Дюнкерка.
Видно, нормандских лиловых ракушек
Не соберу я на мертвом песке.
Дула уснувших без выстрела пушек,
Ребра шпангоутов и чайки в тоске.
Ржавая каска, худая манерка.
Дюны Дюнкерка, дюны Дюнкерка.
Когда вонзится молния в песок,
Спекаются песчинки при ударе
И возникает каменный цветок
В зыбучей гофрированной Сахаре.
Я повидал зеленую зарю,
И миражи, и караван в пустыне,
И каменную розу подарю
Той, что в глаза мои не смотрит ныне.
А где же влажный бархат роз живых,
С которыми тебя встречал всегда я?
Меж твердых лепестков цветов моих
Гнездится не роса, а пыль седая.
Смеяться надо мною не спеши,
Я говорю по-честному, без позы:
В пустыне выжженной моей души
Остались только каменные розы.
Иду, иду… Вокруг песок, песок,
И молнии его кинжалят злобно.
Вдохнуть былую нежность в лепесток
Застывшей розы
Ты одна способна.
«Ко мне явилась рифма — вся в слезах…»
Ко мне явилась рифма — вся в слезах.
Бедняжечка! Она едва дышала,
На ней буквально не было лица.
Шатаясь, спотыкаясь, добрела
До белого, как обморок, блокнота,
И я с тяжелым сердцем записал
Историю ее грехопаденья:
В нее влюбился молодой поэт;
Он ей прощал все то, что было раньше,
И мировую славу обещал.
Но, боже мой, как с ней он обращался!
Ломал, корежил, гнул и так и сяк. Кричал он:
Устаревший жалкий штамп
Считать, что рифма — звонкая подруга
А эти «рифм отточенные пики» —
Средневекового оружья род.
Для современной рифмы корневой
Достаточен и слог в начале слова.
Потом и этот слог — ко всем чертям!
Она повисла на опорной гласной,—
Так альпинист над пропастью висит
На перетертой о скалу веревке.
…Нечесаная, жалкая, в лохмотьях
Средь ночи рифма приплелась ко мне,
Как раз, когда над первою строкой
Я мучался…
— А я к тебе вернулась,
Прости меня. —
Я не сказал ни слова,
Но ложе ей из книг соорудил:
Товарищ Маяковский в изголовье
И сам поручик Лермонтов — в ногах.
Страдалица, забудься, отдохни,
Мы утром обо всем поговорим…
Ночь проведу над белыми стихами.