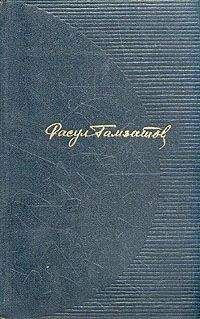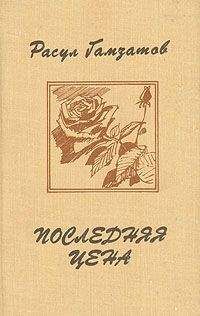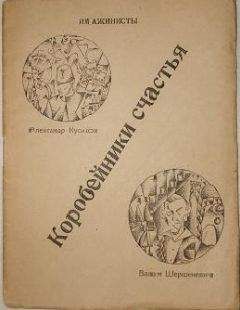…Именно на этом месте я был вынужден отложить поэму, чтобы уехать куда-то очень далеко. В дорогу я взял только думы о ней. Но эти думы вскоре сменились другими, и в моем сердце произошли большие перемены. Путешествия и годы переиначили мою жизнь. Новые впечатления навеяли новые стихи. Но однажды… Мне попались на глаза прозаические наброски моей давней поэмы. Вот они…
Поэма прервалась как раз там, где, я лихо отплясывал лезгинку. И хорошо, что прервалась, ибо отчаянным был этот танец. Ох, уж эти узкие сапоги… Порою мне кажется, мои ноги до сих пор ноют, даже от воспоминаний…
По горскому обычаю, джигит не может выйти из круга, пока девушка первой не прекратит танцевать. Вот и я из последних сил подбадривал сам себя, чтобы довести дело до славного конца. Сапоги брата и без того тесные, как колодки, стиснули мои бедные ноги. На груди моей позвякивали значки, и пот ручьями струился по дрожащему телу.
На мое счастье, зурнача разобрал смех, и он выпустил мундштук изо рта. Использовав эту заминку, я мгновенно плюхнулся на стул. Все громко расхохотались. А ехидней всех смеялся лейтенант… Даже невеста чуточку приподняла покрывало, чтобы взглянуть на такую достопримечательность.
Когда зурна заиграла вновь, и другие пустились в пляс, я незаметно выскользнул из дома, чтобы остаться наедине со своей печалью. И теперь еще сердце мое ноет от смеха ахвахцев. А тогда, подстегнутый стыдом, как скакун нагайкой, я решил немедля отправиться в Цада. Прихрамывая, я кружил по темным улочкам чужого аула, пока не понял, что бесповоротно заблудился. Отчаявшись, я почувствовал себя самым несчастным человеком в мире. И как будто в подтверждение этому, стал накрапывать противный мелкий дождик. Я огляделся вокруг, чтобы укрыться где-нибудь ненадолго. Возле неказистой сакли в двух шагах от меня лежало толстое бревно под сомнительным навесом.
— Сойдет, — подумал я, забираясь в свое убежище. Усевшись на сырое бревно, я тотчас снял свои значки и сунул их в карман пиджака. Теперь в них уже не было надобности. Пускай звенят в кармане вместе с медяками, как мои несбывшиеся надежды…
Прощай, дорогая Шахри!..
Именно в этот момент пришли ко мне первые строки будущей поэмы:
Шахри, Шахри — таинственное имя,
Арабских сказок тонкий аромат…
На свете не найти его любимей,
Как дорог мне насмешливый твой взгляд.
Прощай, Шахри…
Я завтра уезжаю.
Дождь кончится, и ясный день взойдет.
Прощай, Ахвах…
Моя тоска растает,
Как будто снег под мартовским дождем.
Прости, Шахри…
Ахвахская орлица,
Как ты парила в танце, трепеща…
Он по ночам мне долго будет сниться.
Будь счастлива навеки
И прощай!
Ах, Шахри, Шахри… Когда я шептал твое имя, оно, заглушало грохот настырного свадебного барабана. Но ты, живущая в Ахвахе, как и прежде, далека от меня… Да и этот дождь также невыносим, как гримасы проклятого лейтенанта. Не знаю, то ли капли, то ли слезы катятся по моему лицу?..
Прощай, дорогая Шахри!..
Покуда я роптал на свою несчастную долю, сидя под худым навесом, свадьба пошла на убыль, аульчане стали расходиться по домам. Вдруг где-то недалеко я услышал взволнованный голос Омара, который разыскивал своего пропавшего гостя. Я не откликнулся на его окрики, потому что очень гордился своим одиночеством. Омар покричав еще немного, стал с кем-то возбужденно разговаривать:
— Нигде не могу найти своего кунака. Как сквозь землю провалился.
— Никуда не денется, бедолага, — отозвался знакомый голос, — небось, перебрал мой «зятек» ахвахской бузы.
Я вздрогнул от неожиданности, ибо голос этот принадлежал матери Шахри.
— Ну, что ты, мама, — возмутился девический голосок, — все шутишь да шутишь. А если ему плохо сейчас?..
Сердце мое забилось, как свадебный барабан; и я еще сильнее прижался к скользкой стене незнакомого дома.
Омар, распрощавшись с женщинами, пошел продолжать поиски, а Шахри с матерью стали стремительно приближаться ко мне.
— О, Аллах!.. Наверное, они живут в этой сакле, — осенило меня. Однако, спасаться бегством было уже поздно. Оставалось одно — прикинуться спящим выпивохой… Шаги приблизились, и я услышал прямо над ухом желанный голосок.
— Расул, — дернула меня за рукав Шахри.
Я молчал.
— Расул, — громко воскликнула ее мать, тормоша меня за плечи.
Я молчал.
— Расул, — закричали они хором, пытаясь поднять меня с мокрого бревна.
Сопротивляться было бесполезно. И смешно…
— Ага, — промычал я, притворившись подвыпившим. — Я Расул… А вы кто?..
— Мы, — возмутилась Шахри, — да неужели ты не узнаешь нас, несчастный?
— Нет… — затянул я нараспев, при этом зевая вполне натурально.
— Что же будем делать? — озабоченно спросила Шахри у матери. — Может, потащим его к Омару?.. Одному ему не дойти.
— Куда уж нам справиться с таким верзилой, остановила ее Кусун.
— Не сидеть же ему под дождем, — чуть не плакала Шахри.
— Ладно, — решительно воскликнула мать, — так и быть, переночует у нас. Подержи-ка его, пока я отворю ворота.
Меня, как током ударило, когда Шахри обхватила мои плечи. Теперь уже не было никакой возможности выйти из этой дурацкой роли. Да, честно говоря, она мне чертовски нравилась, эта роль неудачливого выпивохи, заплутавшего в чужом ауле. Если Шахри всегда так заботливо будет меня обнимать, я, пожалуй, пойду в актеры Аварского театра.
— Пойдем, сынок, — устало вздохнула Кусун и поволокла меня с помощью Шахри, как мешок муки с аульской мельницы.
Я не сопротивлялся. Я плыл по течению счастливой случайности, которая выпала мне за все мои минувшие страдания.
— Вах! Да он промок, как теленок, угодивший в речку, — всплеснула руками Кусун, когда в комнате зажгли лампу.
Я все еще прикидывался ничего не соображающим болваном и медленно раскачивался из стороны в сторону.
— Да он же может простудиться, — запричитала Шахри, стягивая с меня проклятые сапоги…
О, долгожданная любовь!.. Дороги, ведущие к тебе, так трудны. Много раз меня сбрасывали с крыши, и река уносила меня, и в огне я горел не однажды. Но все это сущие пустяки по сравнению с тем мелким ахвахским дождиком, который я не смогу забыть никогда.
Я не забуду, как Шахри ловкими движениями стащила с меня мокрый пиджак из кармана которого торчала районная газета с моими раскисшими стихами. Я не забуду и ту пронизывающую дрожь, которая пробежала по моему телу, когда Шахри смущенно стелила мне постель.
— Я пойду, а ты, недотепа, сейчас же раздевайся и засыпай.
— Угу, — мрачно буркнул я, широко открывая глаза. Необходимость притворяться отпала с уходом любимой. Я лениво стащил заляпанные аульской грязью штаны, из кармана которых шлепнулась на пол маленькая рыжая лягушка, неведомо как там очутившаяся. Я брезгливо отшвырнул ее ногой и, сбросив одежду, нагишом забрался под ватное одеяло Шахри. О, каким жарким мне оно казалось тогда…
Вскоре я погрузился в то удивительное состояние, к которому можно подобрать только один точный эпитет — райское. Через едва приоткрытую дверь мне было видно, как в соседней комнате блестит огонь в очаге, возле которого стоят мои сапоги, как два озябших ребенка. Мне было слышно, как где-то рядом льется вода, звонкой струйкой ударяясь о дно медного таза. Шахри уже успела простирнуть мои брюки, и теперь они висели на веревке, напоминая канатоходца. Да и сам я чувствовал себя канатоходцем, который, оступившись, свалился с троса. И все-таки в моем сердце ликовала радость, ведь я находился в доме Шахри.
Закрыв глаза, я стал мечтать, что так будет всегда. Я представлял города и страны, в которых мы побываем вместе с любимой, и уже было начал засыпать, как вдруг неожиданно распахнулась дверь, и в комнату влетела Шахри.
— Тебе ничего не нужно?..
— Нет, Шахри, ничего…
— Дождь прекратился. Окно открыть?..
— Как хочешь, Шахри, мне все равно…
— А вдруг будет холодно?..
— Я из Цада.
— Ах, а я чуть не забыла об этом, — усмехнулась она, открывая окно настежь.
— Спит аул… — вздохнула Шахри мечтательно.
— И молодые?..
— Не знаю. Спокойной ночи, — строго сказала она и вышла из комнаты так же неожиданно, как и вошла. — Спокойной ночи, — прошептал я ей вслед, про себя добавив множество замечательных эпитетов к ее имени (золотая моя, бесценная, черноокая и сизокрылая голубка Шахри!)
Грустная и счастливая ночь. На грани, где эти чувства слились воедино, я сладко задремал… Но в этот миг возле моего окна раздался скрип сапог и послышался негромкий разговор, переходящий в шепот. Шум усиливался. Наверное, и Шахри услыхала его, потому что незаметно юркнула в мою комнату, думая, что я уже сплю. Я притаился…
В своих стихах я много раз описал этот замечательный обычай ахвахцев. Когда аульские парни спорят меж собой, к кому благосклонна их избранница, они приходят к ее дому и бросают в распахнутое окно свои разношерстные шапки. Девушка оставляет шапку того, кто мил ее сердцу, а остальные вышвыривает обратно. И мне нередко приходилось стряхивать пыль с моей коварно отвергнутой кепки. Этот ахвахский обычай я бы порекомендовал всему миру… Однако, как ни печально, он исчезает уже и в Ахвахе. Современная любовь говорит на ином языке…