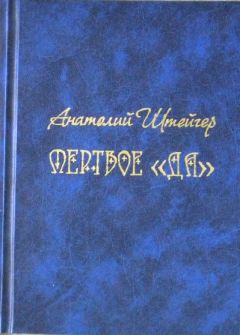М. Цветаевой
В сущности, это как старая повесть
«Шестидесятых годов дребедень»…
Каждую ночь просыпается совесть
И наступает расплата за день.
Мысли о младшем страдающем брате ,
Мысли о нищего жалкой суме,
О позабытом в больничной палате,
О заключенном невинно в тюрьме.
И о погибших во имя свободы,
Равенства, братства, любви и труда.
Шестидесятые вечные годы…
(«Сентиментальная ерунда»?)
* * *
Опять Сентябрь. Короткий промежуток
Меж двух дождей. Как тихо в Сентябре!
В такие дни, не опасаясь шуток,
Мы всё грустим о правде и добре.
В такие дни все равно одиноки.
Кто без семьи и кто еще в семье...
Высокий мальчик в школе на уроке
Впервые так согнулся на скамье.
Старик острее помнит о прошедшем,
О, если б можно сызнова начать
И объяснить, что он был сумасшедшим...
Но лучше скомкать все и замолчать.
А в поле сырость, сумерки, безмолвье,
Следы колес, покинутый шалаш...
Убогим — хлеба, для больных — здоровье
И миру — мир Ты никогда не дашь.
* * *
Все может быть... Быть может есть — не рай,
Но что-нибудь, что отвечает раю:
Неведомый и непонятный край,
В котором... Только что я, в общем, знаю...
Но может быть... И если это есть,
То что нам делать в сущности на свете —
Ходить в кафе? работать? спать и есть?
Но мы не дети, мы, увы, не дети.
...переступить невидимую грань
И все вдруг станет радостней и чище.
Отец и няня... Няня, няня, встань,
Зачем ушла из детской на кладбище.
Я без тебя так страшно одинок,
Я о тебе, тридцатилетний, плачу.
(Я даже схоронить ее не мог,
Припасть к руке. Увидеть дроги, клячу).
Еще хоть раз поговорить с отцом,
Там время может быть у нас найдется.
Не так как было пред его концом...
Но кто мог знать, что он уж не вернется.
Он уходил на час, а не на век
И, вот, упал у Городского Сада...
Усталый, важный, грустный человек,
Проживший жизнь (несладкую) как надо.
И этот друг... Хотя, какой он друг,
(Но он мог стать мне самым лучшим другом),
В большой палате окнами на юг,
Он на платок в крови глядел с испугом.
В начале мы не говорили с ним,
Потом минуту, (я ходил к другому),
Но много надо ли от нас больным...
В больнице все не так и по иному.
Умней бы было ехать не простясь...
— Ты будешь жить. (Впервые «ты» как дети,
Сказали мы краснея и стыдясь).
На третий день ты умер на рассвете.
...и несколько других еще имен
Наедине я часто повторяю...
А если смерть короткий только сон?
Но как узнать... Я ничего не знаю...
* * *
Мы, уходя, большой костер разложим
Из писем, фотографий, дневника.
Пускай горят...
Пусть станет сад похожим
На крематориум издалека.
* * *
За тридцать лет, прожитых в этом мире,
Ты мог понять (и примириться мог),
Что счастья нет, что дважды два четыре,
А остальное — трусость и подлог...
За ложь, что нам рассказывала нянька,
Не раз, не два мы разбивали лоб...
Но, зашатавшись с горя, ванька-встанька
Опять встает — и так по самый гроб.
Душа давным-давно окаменела,
Но человек еще живет и ест
И даже не торопит, чтобы белый
Кроили саван и стругали крест...
* * *
На прошлое давно поставлен крест,
(Такой — что годы, вот, не разогнуться...)
Но проезжая мимо этих мест,
Он дал себе зарок: не оглянуться.
Широкий берег, пальмы, казино
И сразу там... За этим поворотом.
Закрыть глаза. Закрыл... Но всё равно,
Раскрывши их, ошибся он расчетом.
И непонятно, как не грянул гром,
Не наступило окончанье света?
Стекло машины обожгло как льдом...
— обыкновенный двухэтажный дом,
Гараж и сад... Большой плакат «в наём»...
(Одно Мгновенье, в общем, длилось это).
* * *
Здесь мы могли бродить с тобою вместе,
Но я — один и, как слепой во тьме,
Закрыв глаза и вдруг застыв на месте,
Стою часы, — и лишь одно в уме...
Пока плечом толкнет в сердцах прохожих,
И я проснусь и, содрогаясь весь,
Увижу пред собой Палаццо Дожей,
И Марк мне скажет: — Почему ты здесь?..