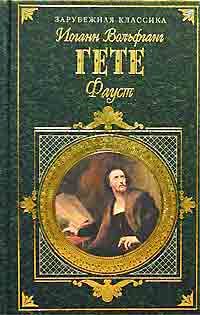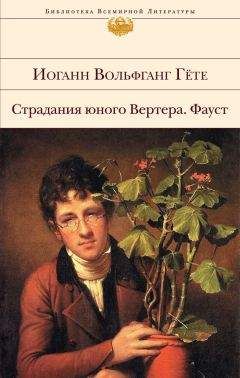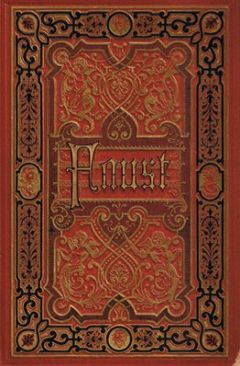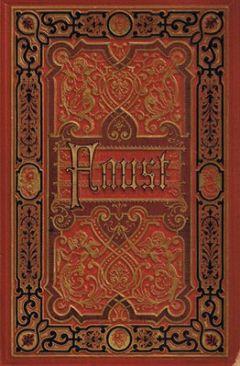Но пока Фауст лишь смутно предвидит этот предназначенный ему путь действенного познания: он по-прежнему еще полагается на «магию» или на «откровение», почерпнутое в «священном писании». Такая путаность фаустовского сознания поддерживает в Мефистофеле твердый расчет на то, что он завладеет душою Фауста.
Но обольщение «сумасбродного доктора» дается черту не так-то легко. Пока Мефистофель завлекает Фауста земными усладами, тот остается непреклонным: «Что можешь ты пообещать, бедняга?» — саркастически спрашивает он искусителя и тут же разоблачает всю мизерность его соблазнов:
Ты пищу дашь, не сытную ничуть,
Дашь золото, которое, как ртуть,
Меж пальцев растекается; зазнобу,
Которая, упав тебе на грудь,
Уж норовит к другому ушмыгнуть.
Увлеченный смелой мыслью развернуть с помощью Мефистофеля живую, всеобъемлющую деятельность, Фауст выставляет собственные условия договора: Мефистофель должен ему служить вплоть до первого мига, когда он, Фауст, успокоится, довольствуясь достигнутым:
Едва я миг отдельный возвеличу,
Вскричав: «Мгновение, повремени:» —
Все кончено, и я твоя добыча,
И мне спасенья нет из западня.
Тогда вступает в силу наша сделка,
Тогда ты волен, — я закабален.
Тогда пусть станет часовая стрелка,
По мне раздастся похоронный звон.
Мефистофель принимает условия Фауста. Своим холодным критическим умом он пришел к ряду мелких, «коротеньких» истин, которые считает незыблемыми. Так, он уверен, что все мироздание («вселенная во весь объем»), на охват которого — делом и мыслью — так смело посягает Фауст, ему, как и любому человеку, никогда не станет доступно. «Конечность», краткосрочность всякой человеческой жизни Мефистофелю представляется непреодолимой преградой для такого рода познавательной и практической деятельности. Ведь Фауст «всего лишь человек», а потому будет иметь дело только с несовершенными, преходящими явлениями мира. Постоянная неудовлетворенность в конце концов утомит его, и тогда он все же «возвеличит отдельный миг» — недолговечную ценность «конечного» бытия, а стало быть, изменит своему стремлению к бесконечному совершенствованию.
Такой расчет (ошибочный, как мы увидим, ибо Фауст сумеет «расширить» свою жизнь до жизни всего человечества) теснейшим образом связан с характером интеллекта Мефистофеля. Он — «дух, всегда привыкший отрицать» и уже поэтому может быть только хулителем земного несовершенства. Его нигилистическая критика лишь внешне совпадает с благородным недовольством Фауста — обратной стороной безграничной Фаустовой веры в лучшее будущее на этой земле.
Когда Мефистофель аттестует себя как
Часть силы той, что без числа
Творит добро, всему желая зла, —
он, по собственному убеждению, только кощунствует. Под «добром» он здесь саркастически понимает свой беспощадный абсолютный нигилизм:
Я дух, всегда привыкший отрицать,
И с основаньем: ничего не надо.
Нет в мире вещи, стоящей пощады.
Творенье не годится никуда.
Неспособный на постижение «вселенной во весь объем», Мефистофель не допускает и мысли, что на него, Мефистофеля, возложена некая положительная задача, что он и вправду «часть силы», вопреки его воле «творящей добро». Такая слепота не даст ему и впредь заподозрить, что, разрушая преходящие иллюзии Фауста, он на деле помогает ему в его неутомимых поисках истины.
Странствие Фауста в сопровождении Мефистофеля начинается с веселой чертовщины в сценах «Погреб Ауэрбаха в Лейпциге» и «Кухня ведьмы», где колдовской напиток возвращает Фаусту его былую молодость. Осью дальнейшего драматического действия первой части Фауста становится так называемая «трагедия Маргариты». Несчастная история Маргариты опирается всего лишь на одно весьма краткое упоминание в народной книге о докторе Фаусте: «Он воспылал страстью также к одной красивой, но бедной девушке, служанке жившего по соседству торговца».
Маргарита — первое искушение на пути Фауста, первый соблазн возвеличить отдельный «прекрасный миг». Покориться чарам Маргариты означало бы так или иначе подписать мировую с окружающей действительностью. Маргарита, Гретхен, при всей её обаятельности и девической невинности — плоть от плоти несовершенного мира, в котором она живет. Бесспорно, в ней много хорошего, доброго, чистого. Но это пассивно-хорошее, пассивно-доброе само по себе не сделает её жизнь ни хорошей, ни доброй. По своей воле она дурного не выберет, но жизнь может принудить её и к дурному. Вся глубина трагедии Гретхен, её горе и ужас в том, что мир её осудил, бросил в тюрьму и приговорил к казни за зло, которое не только не предотвратил её возлюбленный, но на которое он-то, и имел жестокость толкнуть ее.
Неотразимое обаяние Гретхен, столь поразившее Фауста, как раз в том, что она не терзается сомнениями. её пассивная «гармоничность» основана на непонимании лживости общества и ложности, унизительности своего в нем положения. Это непонимание не дает ей усомниться и в «гармонии мира», о которой витийствуют попы, в правоте её бога, в правоте... пересудов у городского колодца. Она так трогательна в своей заботе о согласии Фауста с её миром и с её богом:
Ах, уступи хоть на крупицу!
Святых даров ты, стало быть, не чтишь?
Фауст
Маргарита
Но одним рассудком лишь,
И тайн святых не жаждешь приобщиться,
Ты в церковь не ходил который год?
Ты в бога веришь ли?
Фауст не принимает мира Маргариты, но и не отказывается от наслаждения этим миром. В этом его вина — вина перед беспомощной девушкой. Но Фауст и сам переживает трагедию, ибо приносит в жертву своим беспокойным поискам то, что ему всего дороже: свою любовь к Маргарите. Цельность Гретхен, её душевная гармония, её чистота, неиспорченность девушки из народа все это чарует Фауста не меньше, чем её миловидное лицо, её «опрятная комната». В Маргарите воплощена патриархально-идиллическая гармония человеческой личности, гармония, которую, по убеждению Фауста (а отчасти и самого Гёте), быть может, вовсе не надо искать, к которой стоит лишь «возвратиться». Это другой исход — не вперед, а вспять, — соблазн, которому, как известно, не раз поддавался и автор «Германа и Доротеи».
Фауст первоначально не хочет нарушить душевный покой Маргариты, он удаляется в «Лес и пещеру», чтобы снова «созерцать и познавать». Но влечение к Маргарите в нем пересиливает голос разума и совести; он становится её соблазнителем.
В чувстве Фауста к Маргарите теперь мало возвышенного. Низменное влечение в нем явно вытесняет порыв чистой любви. Многое в характере отношений Фауста к предмету его страсти оскорбляет наше нравственное чувство. Фауст только играет любовью и тем вернее обрекает смерти возлюбленную. Его не коробит, когда Мефистофель поет под окном Гретхен непристойную серенаду: так-де «полагается». Всю глубину падения Фауста мы видим в сцене, где он бессердечно убивает брата Маргариты и потом бежит от правосудия.
И все же Фауст покидает Маргариту без ясно осознанного намерения не возвращаться к ней: всякое рассудочное взвешивание было бы здесь нестерпимо и безвозвратно уронило бы героя. Да он и возвращается к Маргарите, испуганный пророческим видением в страшную Вальпургиеву ночь.
Взгляни на край бугра,
Мефисто, видишь, там у края
Тень одинокая такая?
Она по воздуху скользит,
Земли ногой не задевая.
У девушки несчастный вид
И, как у Гретхен, облик кроткий,
А на ногах её — колодки.
. . . . . . . . . . . . .
И красная черта на шейке,
Как будто бы по полотну
Отбили ниткой по линейке
Кайму, в секиры ширину.
Но за время его отсутствия совершается все то, что свершилось бы, если б он пожертвовал девушкой сознательно. Гретхен умерщвляет ребенка, прижитого от Фауста, и в душевном смятении возводит на себя напраслину — признает себя виновной в убийстве матери и брата.
Тюрьма. Фауст — свидетель последней ночи Гретхен перед казнью. Теперь он готов всем пожертвовать ей, быть может и тем наивысшим — своими поисками, своим великим дерзанием. Но она безумна, она не дает увести себя из темницы и уже не может принять его помощи. Гёте избавляет и Маргариту от выбора: остаться, принять кару или жить с сознанием совершенного греха.
Многое в этой последней сцене первой части трагедии — от сцены безумия Офелии в «Гамлете», от предсмертного томления Дездемоны в «Отелло». Но чем-то она их все же превосходит. Быть может, своей предельной, последней простотой, суровой обыденностью изображенного ужаса. Но прежде всего тем, что здесь — впервые в западноевропейской литературе — поставлены друг перед другом эта полная беззащитность девушки из народа и это беспощадное полновластье карающего её феодального государства.