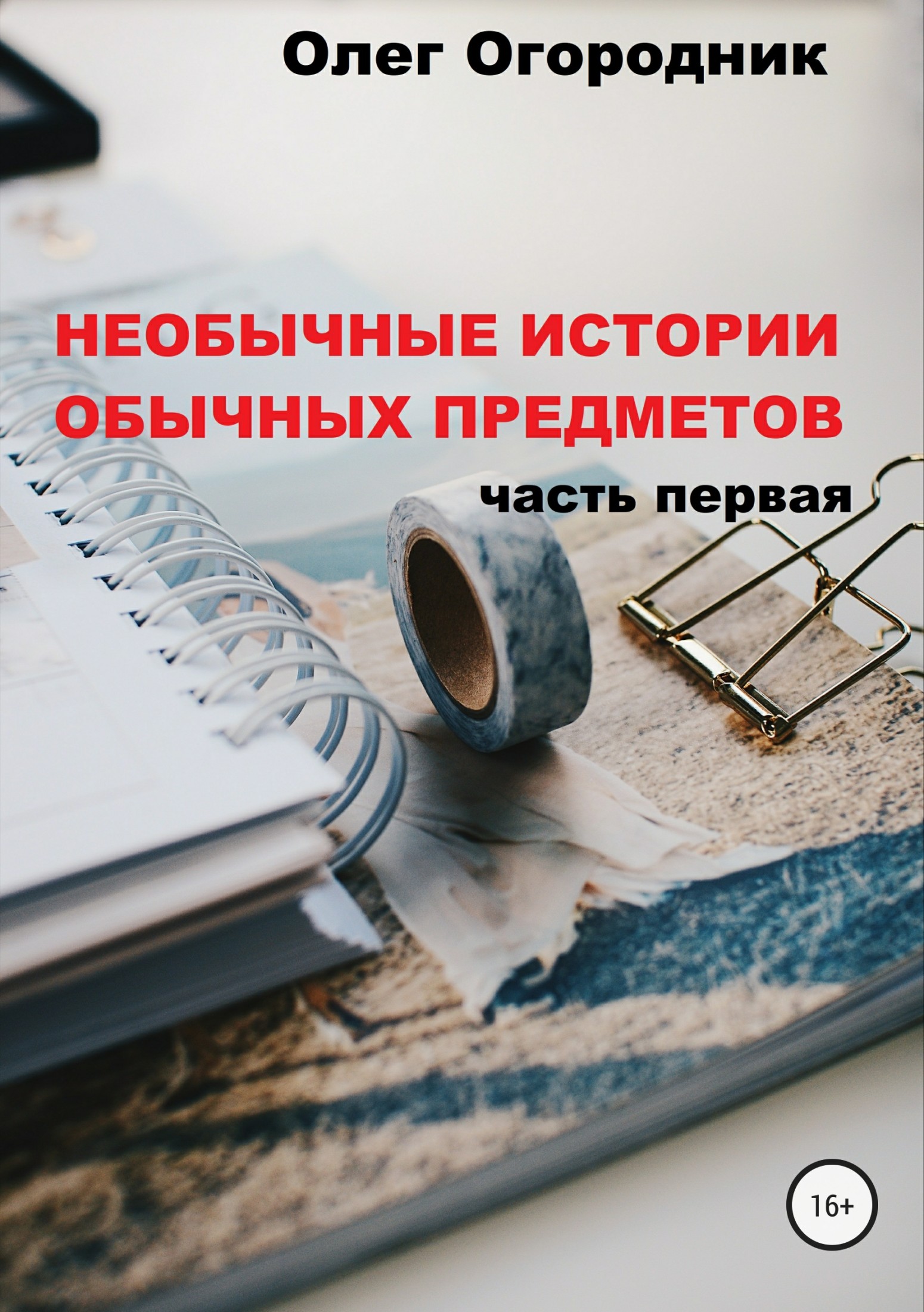с гуся вода.
Ведь всему — своё время и место.
Но зовут за собой поезда…
2001 г.
ГОРОД П.
Сонный город над тёмной онежской водой –
нелюдимый и гордый, всегда молодой,
ослепительно — серый в плену облаков,
богатырь, ставший камнем на веки веков.
Здесь и ночи белы круглый год напролёт –
разве только зимой небо впаяно в лёд,
и, вдоль спальных окраин, толпой, наугад
по делам калевальские боги спешат.
Все дороги ведут либо в рай, либо в ад,
но названия улиц звучат невпопад.
Ведь хозяева громких имён никогда
бескорыстно не будут съезжаться сюда.
Не предавшее предка творенье Петра
хмурым утром не помнит, что было вчера,
и, назло всем на свете ветрам перемен,
кажет площади Киров свой бронзовый хрен.
Здесь невесело жить — помирать хорошо.
Как по юным беспечным годам корешок –
вмиг петлёй раздавил глупо пропитый век,
и душа покатилась в рождественский снег.
Да, места и почище, наверное, есть.
Но родился и вырос я именно здесь,
где у каждого метра — сюжет про запас:
первый день, первый шаг, первый стих, первый класс,
где промозглые волны мне наперебой
вечно шепчут о той, что не стала судьбой,
как, идя с её тёплой рукою в руке,
я учился мечтать на своём языке…
Город светлых фасадов и грязных дворов,
неизвестных художников, мелких воров,
зябких песен, в которых не видно ни зги,
зыбкой северной лени и русской тоски!
Я люблю твое солнце, скупое на свет,
всё, что есть, и чего, к сожалению, нет.
Мне и с майской метелью твоей по пути,
чтоб зерном в каменистую почву уйти.
2001 г.
* * *
Городские голуби серые, как осень
в луже ковыряются молча, не спеша.
Видно, снова Бог послал — пригоршнею бросил
в клювы крошки чёрствые, добрая душа.
Мимо, хмуро хлюпая по воде кругами
всё снуют прохожие. Им и не понять,
как такое хрупкое небо под ногами
может столько живности на себя принять.
То ли злым пророчеством, то ли трудным счастьем
веет от прозрачного парка вдалеке –
от того, что яростно ночь рвала на части,
где осины тонкие нынче налегке.
Так и с нашей памяти облетают годы.
Промелькнули, сгинули — ну, а даль светла.
Стала болью истина, пустотой — свобода,
сколько жизни выжжено — да не всё дотла.
Устарели записи, выцвели тетради,
сами мы повыцвели и давно не те.
Даже слово доброе не корысти ради
обронить нам некогда в вечной суете.
Городские голуби не грустят о прошлом.
И пока не застило свет небесный им
спелой, ослепительной первою порошей,
почему-то верится: мы ещё взлетим.
5-6 января 2002 г.
* * *
Меж ритмом и рифмой, меж Богом и чёртом,
меж серым асфальтом и космосом чёрным
как маятник маюсь — и некуда деться.
Пожизненно здесь я.
Здесь места немало для скуки и грусти,
но всех нас однажды отсюда отпустят
без страха и боли на вольную волю.
Я этим доволен.
Наш мир, несомненно, когда-то придумал
торчок, что сперва основательно дунул.
Как жаль, что такого менты проглядели.
не взяли на деле!
Ни правды, ни чести и всё не на месте
от лести до мести, и в душу не лезьте
с вопросом, во всём ли виновна система,
и кто мы, и где мы!
Политики рулят, народы пасутся.
Не ёрзай на стуле и молча присутствуй!
Да будет в мозгу твоём девственно пусто!
Совсем не искусство
быть лохом. Где надо — там знают, что лоху
любая эпоха — родная эпоха.
Свобода? Да ладно, кому она светит?
Я сам, блин, из этих!
Из тех, кто студентом в весеннюю пору
носил на кармане значок с триколором.
Вот был бы постарше — хватило бы злости
на череп и кости,
и силу признаться, как это ни гадко,
что нет революции в белых перчатках,
и каждый бунтарь — тоже где-то в зачатке
блюститель порядка.
А в общем-то было всё ясно и просто
и в тех пресловутых лихих девяностых,
когда ты не жертвуешь баксы Мавроди,
когда по природе
не хам, не бандит, не ловец привидений,
когда из говна ты не делаешь денег,
когда под фанеру не ноешь фальцетом
и счастлив при этом.
Так просто остаться пушистым и белым!
Всему своё время — потехе и делу.
Я делал что должно — и вышло что вышло.
А ныне я лишний.
Сосулькою тает желание выжить.
Я всё ещё здесь — а по слухам весь вышел.
Становится голос и глуше, и тише –
никто не услышит.
Я слушаю музыку утренних улиц
и парка, где птицы на ветках проснулись.
Всё очень похоже на прежние вёсны,
что мне не по росту.
Из давних обид вырастаю, и всё же
не стану уже никогда толстокожим.
И двери для новых открытий открыты
меж рифмой и ритмом!
апрель 2014 г.
* * *
Ой, ты племя аутсайдеров могучее,
да плебейские мечты про трубы медные!..
Кто при жизни для поэта был попутчиком,
тот запишется в друзья его посмертные.
К пьедесталу нанесут венков и почестей,
накатают мемуары всей оравою,
порастащат по цитатникам пророчества,
и глядишь — уже почти на "ты" со славою!
Одиночество положено по чину ли
для великих, посвящённых и засвеченных?
А из чьей петли его когда-то вынули -
пусть историки потом поспорят с вечностью.
И как нашу суть ты ни переиначивай,
мы останемся такими же, как созданы.
Сам Христос себя на мелочи растрачивал,
а в писатели пробились лишь апостолы.
Но как молодо, как неприлично-молодо
голоса звучат у тех, кто были первыми
со страниц и старых плёнок, перемолотых
сотен стереосистем стальными недрами!
До конца пути они в сердцах останутся.
Им — делиться, нам — делить… Зачтётся щедрому!
А попутчики сойдут на тихой станции
в злом безмолвии, безвестности, безветрии…
июль 2003 г.
* * *
Переменится ветер. Когда — я не знаю, и всё же
Все, сбиваясь с пути, утихают однажды стихии.
Не бывало времён, абсолютно на наши похожих –
Так же мрачны, скучны и тревожны, а всё же другие.
И исправят ошибки в прогнозах синоптики снова,
И провидцы косить под слепых наконец-то устанут,
И щедры на эпитеты станут художники слова
Потому, что изгоями быть, наконец, перестанут.
Если душу не продал, продашь своё громкое имя,