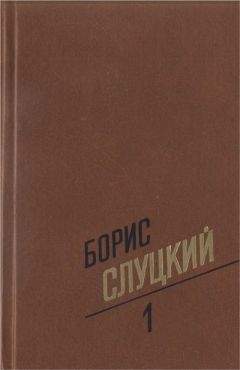«Сосредоточусь. Силы напрягу…»
Сосредоточусь. Силы напрягу.
Все вспомню. Ничего не позабуду.
Ни другу, ни врагу
Завидовать ни в чем не буду.
И — напишу. Точнее — опишу,
Нет — запишу магнитофонной лентой
Все то, чем в грозы летние дышу,
Чем задыхаюсь зноем летним.
Магнитофонной лентой будь, поэт,
Скоросшивателем входящих. Стой на этом,
Покуда через сколько-нибудь лет
Не сможешь в самом деле стать поэтом.
Не исправляй действительность в стихах,
Исправь действительность в действительности
И ты поймешь, какие удивительности
Таятся в ежедневных пустяках.
Начну по порядку описывать мир,
Подробно, как будто в старинном учебнике,
Учебнике или решебнике,
Залистанном до окончательных дыр.
Начну не с предмета и метода, как
Положено в книгах новейшей эпохи,—
Рассыплю сперва по-старинному вздохи
О том, что не мастер я и не мастак,
Но что уговоры друзей и родных
Подвигли на переложение это.
Пишу, как умею, Кастальский родник
Оставив удачнику и поэту.
Но прежде, чем карандаши очиню,
Письмо-посвящение я сочиню,
Поскольку когда же и где же видели
Старинную книгу без покровителя?
Не к здравому смыслу, сухому рассудку,
А к разуму я обращусь и уму.
И всюду к словам пририсую рисунки,
А схемы и чертежи — ни к чему.
И если бумаги мне хватит
и бог
Поможет,
и если позволят года мне,
Дострою свой дом
до последнего камня
И скромно закончу словами;
«Как мог».
И положительный герой,
И отрицательный подлец —
Раздуй обоих их горой —
Мне надоели наконец.
Хочу описывать зверей,
Хочу живописать дубы,
Не ведать и не знать дабы.
Еврей сей дуб иль не еврей,
Он прогрессист иль идиот,
Космополит иль патриот,
По директивам он растет
Или к свободе всех зовет.
Зверь это зверь. Дверь это дверь.
Длину и ширину измерь,
Потом хоть десять раз проверь
И все равно: дверь — это дверь.
А — человек?
Хоть мерь, хоть весь,
Хоть сто анкет с него пиши,
Казалось, здесь он.
Нет, не здесь.
Был здесь и нету ни души.
«Как испанцы — к Америке…»
Как испанцы — к Америке,
Подплыву к современности.
Не мудрее Колумба,
Принимать я привык
За Америку — Кубу,
Остров — за материк.
Я поем кукурузы,
Табаку покурю,
Погружу свои грузы,
Племена покорю,
Разберусь постепенно
В том, что это — не Индия.
В том, что здесь нестерпимо,
В том, что внове увидено,
Что плохое, что славное.
Постепенно и планово
Насобачусь я главное
Отличать от неглавного.
Стояли сосны тесно,
Блистали сосны росно.
Прямые как отвес, но
Развесистые сосны.
И можно длить и холить речь,
Сравненьем тешить новым,
А можно просто рядом лечь
И подышать сосновым.
«Не особый талант пророчества…»
Не особый талант пророчества —
Это было значительно проще все:
От безмерного одиночества
Отдавал я дни и ночи все
Мемуарам передним числом.
Это стало моим ремеслом.
Не пророчу и не догадываюсь —
Я не столь глубок и широк,
Как тяжелый шар я докатываюсь
До конца,
раньше легких шаров.
«Маловато думал я о боге…»
Маловато думал я о боге,
Видно, он не надобился мне
Ни в миру, ни на войне,
И ни дома, ни в дороге.
Иногда он молнией сверкал,
Иногда он грохотал прибоем,
Я к нему — не призывал.
Нам обоим
Это было не с руки.
Бог мне как-то не давался в руки.
Думалось: пусть старики
И старухи
Молятся ему.
Мне покуда ни к чему.
Он же свысока глядел
На плоды усилий всех отчаянных.
Без меня ему хватало дел —
И очередных и чрезвычайных.
Много дел: прощал, казнил,
Слушал истовый прибой оваций.
Видно, так и разминемся с ним,
Так и не придется стыковаться.
«Народ за спиной художника…»
Народ за спиной художника
И за спиной Ботвинника,
Громящего осторожненько
Талантливого противника.
Народ,
за спиной мастера
Нетерпеливо дышащий,
Но каждое слово
внимательно
Слушающий
и слышащий,
Побудь с моими стихами,
Постой хоть час со мною.
Дай мне твое дыханье
Почувствовать за спиною.
«Все правила — неправильны…»
Все правила — неправильны,
Законы — незаконны,
Пока в стихи не вправлены
И в ямбы — не закованы.
Период станет эрой.
Столетье — веком будет,
Когда его поэмой
Прославят и рассудят.
Пока на лист не ляжет
«Добро!» поэта,
Пока поэт не скажет,
Что он — за это,
До этих пор — не кончен спор.
«Я очень мал, в то время как Гомер…»
Я очень мал, в то время как Гомер
Велик и мощен свыше всяких мер.
Вершок в сравненьи с греческой верстою,
Я в чем-то важном все же больше стою.
Я выше. Я на Сталине стою
И потому богов не воспою.
Я больше, потому что позже жил
И од своим тиранам не сложил.
Что может Зевс, на то плевать быкам,
Подпиленным рогам, исхлестанным бокам[45].
«Человечество делится на две команды…»
Человечество делится на две команды.
На команду «смирно»
И команду «вольно».
Никакие судьи и военкоматы,
Никакие четырехлетние войны
Не перегонят меня, не перебросят
Из команды вольных
В команду смирных.
Уже пробивается третья проседь
И молодость подорвалась на минах,
А я, как прежде, отставил ногу
И вольно, словно в юные годы,
Требую у жизни совсем немного —
Только свободы.
«В свободное от работы время…»
В свободное от работы время
Желаю читать то, что желаю,
А то, что не желаю, — не буду.
Свобода чтения — в нашем возрасте
Самая лучшая свобода.
Она важнее свободы собраний,
Необходимой для молодежи,
И свободы шествий,
Необходимой для променада,
И даже свободы мысли,
Которую все равно не отнимешь
У всех, кто
способен мыслить.
«Потомки разберутся, но потомкам…»
Потомки разберутся, но потомкам
Придется, как студентам — по потокам
Сперва разбиться,
после — расстараться,
Чтоб разобраться.
Потомки по потокам разобьются,
Внимательны, умны, неотвратимы,
Потрудятся, но все же разберутся
Во всем, что мы наворотили.
Давайте же темнить, мутить и путать,
Концы давайте в воду прятать,
Чтоб им потеть, покудова распутать,
Не сразу взлезть,
Сначала падать.
Давайте будем, будем, будем
Все, что не нужно или же не надо.
И ни за что не будем, нет, не будем
Все то, что нужно, правильно и надо.
«Поэты потрясали небеса…»
Поэты потрясали небеса,
Поэты говорили словеса,
А скромные художники
Писали в простоте
Портреты — на картончике,
Пейзажи — на холсте.
Поэт сначала требует: «Вперед!»
Потом: «Назад!» — с волнением зовет,
А тихие ваятели
Долбают свой гранит.
— Какие обыватели! —
Поэт им говорит.
«По кругу Дома творчества…»