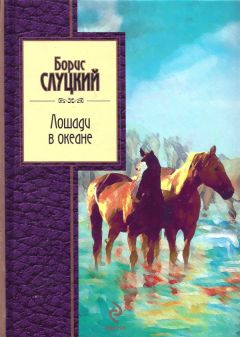Всеми этими своими подвигами, а также грубыми антисемитскими выходками на бытовом уровне Бубеннов заслужил славу самого злостного антисемита в Союзе писателей. А может быть, даже и во всем СССР. Соперничать с ним в этом качестве мог только известный в ту пору драматург Анатолий Суров.
И вот однажды они подрались.
Уж не знаю, что они там не поделили. А может статься, это был даже какой-нибудь принципиальный, идейный спор. Один, может быть, доказывал, что всех евреев надо отправить в газовые камеры, а другой предлагал более мягкий вариант: выслать их на Колыму. Или еще того либеральнее — в Израиль.
Как бы то ни было, они подрались. И драка была серьезная. В ход была пущена даже мебель — стулья, табуретки…
Случилось это в старом писательском доме в Лаврушинском переулке. Увлеченные борьбой супостаты выкатились из этого облицованного мрамором дома прямо на улицу, на потеху толпы народа, образовавшей традиционную очередь в Третьяковку. Оружием одного из сражающихся, как рассказывали очевидцы, стала вилка, которую он вонзил своему оппоненту в зад.
Сражение это вдохновило Эммануила Казакевича. Вдохновило настолько, что он описал его не прозой, как это можно было бы ожидать, а стихами. И даже облек свою поэтическую зарисовку в чеканную форму сонета:
Суровый Суров не любил евреев,
Он к ним враждой старинною пылал,
За что его не жаловал Фадеев
И А. Сурков не очень одобрял.
Когда же Суров, мрак души развеяв,
На них кидаться чуть поменьше стал,
М. Бубеннов, насилие содеяв,
Его старинной мебелью долбал.
Певец березы в жопу драматурга
С ужасной злобой, словно в Эренбурга,
Столовое вонзает серебро.
Но, следуя традициям привычным,
Лишь как конфликт хорошего с отличным
Решает это дело партбюро.
В сочинении этого сонета, во всяком случае в доведении его до совершенства, принял участие сам Твардовский. Именно он, как рассказывали свидетели творческого процесса, подарил Казакевичу замечательную (едва ли не лучшую во всем стихотворении) строчку: «Столовое вонзает серебро».
В справочнике Тарасенкова…
Справочник, составленный критиком А. Тарасенковым: «Русские поэты XX века. 1900–1955. Библиография» (М., 1966). — прим. верст.
Платон Воронько, писавший тогда по-русски…
Воронько Платон Никитич (1913–1988) — украинский поэт. Один из секретарей московской писательской организации. Слуцкий имеет в виду активное участие П. Воронько в кампании по борьбе с «безродными космополитами». — прим. верст.
…мы — третье поколение его учеников после ЛЦК и Констромола.
ЛЦК — Литературный центр конструктивистов. Так именовала себя в 20-е годы группа поэтов, претендовавших на создание нового (после символизма, акмеизма и футуризма) направления русской поэзии XX века. В ЛЦК входили В. Луговской, Э. Багрицкий, В. Инбер, Б. Агапов, Н. Адуев, Е. Габрилович. Теоретиком группы был Корнелий Люцианович Зелинский, впоследствии за свою выдающуюся сервильность получивший прозвище — Карьерий Поллюцианович Вазелинский. А возглавил ее Илья Львович Сельвинский (подобно тому, как ЛЕФ возглавлял Маяковский, которому Сельвинский подражал и с которым соперничал). Лидеры ЛЦК пытались вовлечь в круг своего влияния поэтическую молодежь («констромол»).
Группа сложилась и объявила о своем существовании в 1924 году. Просуществовала до 1930-го.
Берта спросила меня…
Берта Яковлевна Сельвинская (1898–1980) — жена поэта. — прим. верст.
…из бывшего лефовского круга…
ЛЕФ — Левый фронт искусств — литературно-художественное объединение, возникшее в Москве в 1922 г. во главе с В. Маяковским. В объединение входили Н. Асеев, В. Каменский, С. Кирсанов, Б. Пастернак (до 1927 г.), художник А. Родченко, критики О. Брик и В. Шкловский, П. Незнамов. Просуществовало до 1929 г. — прим. верст.
…бегают по аллеям, как Нора Галь с ее офицерской выправкой.
Нора Яковлевна Галь (1912–1991) — переводчица. Переводила произведения французских, английских и американских писателей XX века: «Маленький принц» (1960) и «Планета людей» (1970) Антуана де Сент-Экзюпери, «Смерть героя» (1961) Р. Олдингтона, «Убить пересмешника» (1964) Харпер Ли, английских и американских классиков (Диккенса, Уэллса, Эдгара По, Джека Лондона) и современных американских фантастов (П. Андерсена, Р. Брэдбери, К. Саймака).
…стяжательствовала по магазинам…
Злое слово «стяжательствовала» в этом портрете известной советской поэтессы возникло тут не на пустом месте. В то время о Вере Михайловне Инбер рассказывали такую (как потом выяснилось, правдивую) историю.
Была у нее подруга. Ближайшая, самая близкая, ближе не бывает. Муж ее занимал разные ответственные посты. И была у них маленькая дочь, в которой оба они не чаяли души. Это была счастливая и, как тогда говорили, хорошо обеспеченная семья.
Но в тридцать седьмом мужа арестовали. И по некоторым несомненным признакам стало ясно, что скоро арестуют и жену тоже. И тогда она собрала все самое ценное, что было в ее доме, — деньги, драгоценности, какие-то там парижские туалеты, которые привозил ей из загранки муж, — и отнесла все это своей ближайшей подруге, Вере Михайловне Инбер. С тем чтобы, когда ее маленькая дочка останется одна на всем белом свете, та потихоньку продавала их, а деньги отдавала няньке — простой деревенской женщине, которая в девочке тоже души не чаяла и вообще была бесконечно предана всей их семье. При мысли о том, что ее маленькую дочку могут забрать в какой-нибудь ужасный детдом для детей врагов народа, она сходила с ума. И вот придумала такой выход.
Вскоре ее действительно арестовали. И нянька, как было условлено, пришла к Вере Михайловне. Но та сказала, что ни о каких деньгах, драгоценностях и парижских туалетах она знать не знает, а о дочери арестованных врагов народа позаботится государство. С тем нянька и ушла.
А однажды произошел такой случай. Девочка шла с нянькой по улице, а перед ними шла дочь Веры Михайловны в хорошо знакомой ребенку шубе. Девочка кинулась за ней с радостным криком: «Мама!»
Дочь поэтессы обернулась, сразу все поняла и злобно прошипела — не девочке, разумеется, а няньке:
— Еще раз тебя увижу, донесу!
Ситуация складывалась опасная. Да и жить с девочкой в большой городской квартире няньке было не на что. Не говоря уже о том, что квартиру эту наверняка все равно вскоре бы отобрали, а девчонку забрали в детдом. Поэтому, недолго думая, нянька увезла «сиротку» к себе в деревню и там, на медные гроши, на мифические какие-то свои трудодни с Божьей помощью ее вырастила.
А семнадцать лет спустя из лагеря вернулась мать. И все узнала. И явилась, как тень отца Гамлета, к бывшей своей ближайшей подруге.
На такой поворот событий поэтесса, понятное дело, никак не рассчитывала. Она — как, впрочем, и все ее современники — не сомневалась, что люди, исчезнувшие в те ужасные времена, исчезли навсегда. И когда «мертвецы» вдруг стали возвращаться, для многих это было самым настоящим, а для некоторых даже довольно жутким потрясением. Потом, конечно, они как-то от этого потрясения оправились, но поначалу, я думаю, им было очень даже не по себе.
Вот и Вера Михайловна поначалу тоже была потрясена возвращением с того света бывшей своей ближайшей подруги. Она валялась у нее в ногах, обещала отдать все, что присвоила, и даже больше. Гораздо больше! Сулила ей золотые горы, только чтобы та никому ничего не рассказывала.
Но подруга была неумолима. «Непременно буду рассказывать, — сказала она. — Всем. Знакомым и незнакомым».
И рассказывала.
Историю эту я изложил в том фольклорном варианте, в каком в то время ее услышал. Не исключено, что в пересказах она обросла какими-то мифическими подробностями. Но самая суть дела передана правильно. Теперь я даже могу назвать имя этой ближайшей подруги Веры Михайловны. Ее звали Фрада Беспалова. Погибший в сталинских лагерях ее муж, Иван Михайлович Беспалов, был видным литературным функционером. В 1929–1931 гг. работал заместителем редактора журнала «Печать и революция», редактором журнала «Красная новь». Позже — корреспондентом ТАСС за границей, откуда он и привозил жене доставшиеся потом Вере Михайловне Инбер парижские туалеты.
Что касается морального облика Веры Михайловны Инбер, то на этот счет у Слуцкого — это ясно видно из его очерка — не было никаких иллюзий. Тем не менее однажды он строго спросил меня: