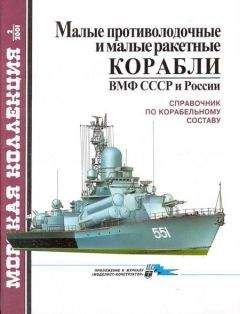<Январь 1920>
“Троянские поправ развалины, в чертог…”
Троянские поправ развалины, в чертог
Приамов Менелай вломился, чтоб развратной
супруге отомстить и смыть невероятный
давнишний свой позор. Средь крови и тревог
он мчался, в тишь вошел, поднялся на порог,
до скрытой горницы добрался он неслышно,
и вдруг, взмахнув мечом, в приют туманно-пышный
он с грохотом вбежал, весь огненный как бог.
Сидела перед ним, безмолвна и спокойна,
Елена белая. Не помнил он, как стройно
восходит стан ее, как светел чистый лик…
И он почувствовал усталость, и смиренно,
постылый кинув меч, он, рыцарь совершенный,
пред совершенною царицею поник.
Так говорит поэт. И как он воспоет
обратный путь, года супружеского плена?
Расскажет ли он нам, как белая Елена
рожала без конца законных чад и вот
брюзгою сделалась, уродом… Ежедневно
болтливый Менелай брал сотню Трой меж двух
обедов. Старились. И голос у царевны
ужасно резок стал, а царь — ужасно глух.
“И дернуло ж меня, — он думает, — на Трою
идти! Зачем Парис втесался?” Он порою
бранится со своей плаксивою каргой,
и, жалко задрожав, та вспомнит про измену.
Так Менелай пилил визгливую Елену,
а прежний друг ее давно уж спал с другой.
<Январь 1920>
“Моими дивными деревьями хранимый…”
Моими дивными деревьями хранимый,
лежал я, и лучи уж гасли надо мной,
и гасли одинокие вершины,
омытые дождем, овеянные мглой.
Лазурь и серебро и зелень в них сквозили;
стал темный лес еще темней;
и птицы замерли, и шелесты застыли,
и кралась тишина по лестнице теней.
И знал я в это вещее мгновенье,
что ночь, и лес, и ты — одно,
я знал, что будет мне дано
в глубоком заколдованном покое
найти сокрытый ключ к тому,
что мучило меня, дразнило: почему
ты — ты, и ночь — отрадна, и лесное
молчанье — часть моей души.
Дыханье затаив, один я ждал в тиши,
и, медленно, все три мои святыни —
три образа единой красоты —
уже сливались: сумрак синий,
и лес, и ты.
Но вдруг —
все дрогнуло, и грохот был вокруг,
шумливый шаг шута в неискренней тревоге,
и треск, и смех, слепые чьи-то ноги,
и платья сверестящий звук,
и голос, оскорбляющий молчанье.
Ключа я не нашел, не стало волшебства,
и ясно зазвучал твой голос, восклицанья,
тупые, пошлые, веселые слова.
Пришла и близ меня заквакала ты внятно…
Сказала ты: здесь тихо и приятно.
Сказала ты: отсюда вид неплох.
А дни уже короче, ты сказала.
Сказала ты: закат — прелестен.
Видит Бог,
хотел бы я, хотел, чтоб ты в гробу лежала!
<Январь 1920>
“Усталый, поздно возвратился…”
Усталый, поздно возвратился
я в сумрак комнатки моей,
к уюту бархатного кресла,
к рубинам тлеющих углей.
Вошел тихонько я и… замер:
был женский облик предо мной:
щеки и шеи светлый очерк,
прически очерк теневой,
да, в кресле кто-то незнакомый,
вон там, сидел ко мне спиной.
И волосы ее и шею
я напряженно наблюдал;
на миг застыл, потом рванулся —
и никого не увидал.
Игра пустая, световая
лишь окудесила меня —
теней узоры да подушка
на этом кресле у огня.
О вы, счастливые, земные,
скажите, мог ли я уснуть?
Следил я, как луна во мраке
свершала крадучись свой путь —
по стенке, в зеркале, на чашке…
Я в эту ночь не мог уснуть.
<Январь 1920>
“Было поздно, было скучно…”
Было поздно, было скучно,
было холодно, и я
звездам — братии веселой
позавидовал: друзья
золотые, хорошо вам!
Не тоскует никогда
со звездою лучезарной
неразлучная звезда.
Светом нежности взаимной,
светом радостей живых,
беззаботностью, казалось,
свыше веяло от них.
Так, быть может, и Создатель
смотрит с вышины своей,
развлекаемый веселой
вереницею людей,
и не ведает, что каждый
в одиночестве своем,
как потерянный в пустыне,
бродит в сумраке немом.
Я-то ведал, полюбил их,
пожалел от всей души:
там, в пустынях непостижных,
в угнетающей тиши,
тлели звезды одиноко,
и с далеким огоньком
огонек перекликался
комариным голоском…
<Январь 1920>
“Алмазно-крепкою стеною от меня…”
Алмазно-крепкою стеною от меня
Всесильный отделил манящую отраду.
Восстану, разобью угрюмую ограду
и прокляну Его, на троне из огня!
Всю землю я потряс хулой своей великой,
но пламенем Любовь вилась у ног моих,
и, гордый, я дошел до лестниц золотых,
ударил трижды в дверь, вошел с угрозой дикой.
Дремал широкий двор; он полон солнца был
и полон отзвуков бесплодных. Мох покрыл
квадраты плит сквозных и начал, неотвязный,
в покои пыльные вползать по ступеням…
Внутри — пустой престол; и веет ветер праздный
и зыблет тяжкие завесы по стенам.
<Январь 1920>
“По кругам немым, к белоснежной вершине земли…”
По кругам немым, к белоснежной вершине земли
четыре архангела ровно и медленно шли:
огромные крылья сложив, выделяясь на небе пустом,
несли они гробик убогий; ребенок покоился в нем,
да, верно, — ребенок (хоть склонны мы думать, что Бог
не мог бы ребенка увлечь от весенних дорог:
и в хрупкой и в жуткой скорлупке смахнуть его прочь
в пространства пустынные, в тишь бесконечную, в ночь).
И вниз они глянули, сбросив с вершины крутой,
в объятья неведомой тьмы, черный гробик простой,
и Господа жалкое тельце, свернувшись в клубок,
лежало в нем, точно измятый, сухой лепесток.
Он в бездне исчез, и в молчанье, один за другим
архангелы грустно спустились к равнинам пустым.
<Январь 1920>
Seamas o’Sullivan — псевдоним ирландского поэта Джеймса Салливэна Старки (1879–1958).
Из сильного вышло сладкое (англ.).
“Грани”: Литературный альманах. 1922. Кн. 1. С. 212–231. Руперт Брук (Brooke, 1887–1915) — английский поэт-георгианец.